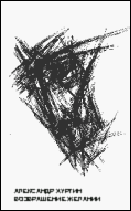
ПОВЕСТИ
Возвращение желаний
Что с ним происходило, старик Полухин не объяснял. Ни в прошлом своём не имел он особенности объяснять — никому и ничего, — ни тем более в настоящем. Не научен он был объяснениям предаваться и уделять им какое-то время и внимание. Да ещё объяснениям о себе и своих соматических состояниях. А понять это без объяснений, самостоятельно, никому не под силу. Это каждый в свой срок понимает. Или не понимает никогда. Не успевает с рождения до смерти понять или не суждено ему бывает от Бога, не дано. Так что каждый поведение и общее состояние старика Полухина по-своему оценивал и определял. На глаз или, проще сказать, наобум.
Обычно более молодые и крепкие о таких уходящих стариках говорят, что они в детство впадают. Это когда престарелые люди выпадают из времени до того, как выпасть из пространства. Но в детство, оно, может, и в детство — в смысле немочи умственной и физической. Только в детстве немочь есть начало и предвестие силы, а в старости она — её конец. Или, по крайней мере, начало конца, начало его приближения по финишной прямой.
Нет, было тут ещё что-то. Кроме немочи. Та же самая радость, допустим. На Полухина моментами что-то находило, и он радовался непрерывно по самым ничтожным и незначительным поводам. Хотя… это тоже при желании объяснить можно исчерпывающе. Тем же самым. Впал человек в детство и радуется, как дитя. В детстве радуются, потому что всё вокруг новое и неизвестное, и ребёнок, не имея пока ни разума, ни опыта, испытывает на каждом шагу радость от новизны и познания всего подряд в окружающем мире. А в старости человек радуется, но совсем другому. Радуется тому, что всё ещё что-то испытывает и ощущает. Вкус мороженого фруктового, запах дождя из окна, тепло от воды в ванной, радость пробуждения живым и способным встать с постели. А то и не способным встать, но живым. Уж чем-чем, а радостями человек обеспечивается на все свои возрасты и все свои годы. Они ему по прейскуранту, так сказать, свыше предусмотрены. Надо только уметь эти радости видеть и — пока есть на то силы и средства — не пропускать мимо себя незамеченными. А если приходится их искать и находить — нужно уметь искать и находить. Но это умеют далеко не все живущие. Некоторые пробуют искать, ищут и ничего, никаких радостей вокруг себя не обнаруживают. А некоторые и не ищут, считая это бесполезным занятием для недалёких, легковерных и наивных во всём людей. И живут безрадостно, думая, что это соответствует норме и так может продолжаться и должно быть. Не только в старости, но и в зрелые, и в молодые годы, а также в юности и в детстве.
Иногда, правда, детское состояние старика Полухина выплёскивалось наружу странно и не вполне ординарно с общепринятой точки зрения и по мнению здраво мыслящих членов его семьи. То он, лёжа на боку, лицом к стене, спрашивал у своей будущей вдовы — допоздна ли она делала уроки, когда училась в девятом классе средней общеобразовательной школы, то говорил, что ему нужно сдать два государственных экзамена по политической экономии и диалектическому материализму, и пусть, говорил, ему не мешают готовиться своим шумом и гамом, и пустяками в кухне. Случалось, когда жена выходила за чем-нибудь из дому, он вскакивал и, суетясь, вынимал из шкафа костюм, висевший там без надобности. Надевал его уверенными движениями, на которые давно не был способен, прибегал, мелко шаркая, в кухню, садился к столу и сидел. Причём сидел, умудрившись закинуть правую ногу на левую. Покуда жена не обнаруживала его по возвращении в таком безумном, сидячем положении.
— Куда ты собрался? — спрашивала она.
— В институт, — отвечал старик, не выходивший на улицу года два.
— Ещё рано, — говорила жена. — Раздевайся.
Но раздеться самостоятельно он уже не мог, и жена помогала ему, и укладывала обессиленного в постель. А то она заставала его тихо плачущим. Зайдёт на него взглянуть, а он лежит на спине и плачет. Слёзы из глаз вытекают ручьями и стекают по морщинам, мимо ушей на подушку. Она даст ему свою руку, он за неё подержится и плакать перестанет.
Видимо, в нём восстанавливалась какая-то связь с началом жизни. Видимо, в сознании старика Полухина его собственная прожитая жизнь, жизнь, подошедшая к логическому завершению, начинала закольцовываться, замыкаясь на своём начале. И он терял в этом замыкающемся, а может быть, уже и замкнувшемся круге ориентиры и жил в том времени, какое в данный момент ему виделось. Не глазами виделось, ослабевшими от многолетнего напряжённого в`идения, а особым внутренним зрением. Зрением памяти, что ли. Так, наверно, можно его назвать.
А видеться могло ему какое угодно время. Поскольку все события располагались теперь не в уходящей, обратной, перспективе, а на окружности. Сам старик Полухин пребывал внутри этой временн`ой окружности. И он видел то, что было на ней в данную минуту перед его взглядом. Но в любом случае взгляд его был направлен в прошлое, в прошедшее время, в то время, которого давно нет. В никуда, получается, был направлен. А в настоящем времени он фактически уже не существовал. Разве что короткими эпизодами, перебежками, обрывками. И тратились эти обрывки на одевание-раздевание, еду и хождение в туалет, измерение давления и принятие лекарств. На то, значит, что требовало от него физических напряжённых усилий и хоть какого-то умственного внимания. Сосредоточенности на себе нынешнем требовало. И ещё, может быть, спал он в настоящем времени, хотя это тоже вопрос без ясности. Когда же его мыла или брила жена, когда он сидел, дыша воздухом, на лоджии или смотрел лёжа телесериал — старик Полухин отсутствовал. Здесь, в реальном времени, во времени, текущем для большинства. Потому что он находился в своём времени. И чем ближе к смерти, тем реальнее становилось для него его собственное, нереальное, время, тем дольше он там бывал душой и телом, тем реже оттуда выползал. Но всё-таки иногда выползал. Или, пожалуй, выныривал. Часто — для себя самого неожиданно и зачем, неизвестно. Он просто обнаруживал, что пытается перевести своё беспомощное тело в сидячее положение, натягивая верёвочную лестницу, специально придуманную иностранцами для тех, у кого не хватает сил подняться с постели напряжением собственных мышц.
— Куда ты собрался? — говорила жена.
— Мне надо, — говорил старик.
— Куда надо?
— Надо, — и шёл в туалет. И там запирался.
— Зачем ты запираешься? — кричала жена.
Но старик Полухин её не слушал. Он обязательно, как назло, запирался в туалете. Видимо, по привычке, выработавшейся за десятки предыдущих лет и автоматически безотказно срабатывавшей, управляя его движениями. Раньше, год или два назад, он так же запирался в ванной. Хотя уже поскальзывался там, падал и лежал — потому что сильно ударялся и головой, и всем телом. Кончилось тем, что сын пришёл и вывинтил из двери крючок.
С туалетом в результате получилось приблизительно то же самое, то, чего жена и опасалась. Старик пошёл туда на рассвете, когда она спала, заперся, сел и запрокинулся назад. Он сидел и не мог встать. Сидел и молчал. Собираясь с силами. А силы не собирались. Их не было. Они, наоборот, от него уходили и его покидали. И он сидел, потея, полупровалившись в унитаз, пока жена не почувствовала неладное.
Её сознание даже сквозь сон следило за стариком. Наверно, она боялась, чтоб он не умер во сне. А то говорят — повезло человеку счастливо умереть. Уснул и не проснулся. А кто это знает, что не проснулся? Что умер во сне, под защитой сна. Жена склонна была думать, что это окружающие, близкие, спят, когда человек умирает. А он умирает как положено, без льгот. Встречает свою смерть один на один, в полном отсутствии посредников и адвокатов. И может быть, Бог умышленно делает так, чтобы все остальные — пока посторонние и непричастные — спали без задних ног. И не мешали своим неуместным присутствием и мельтешеньем, и чтобы не стали невольно посвящёнными в последнее таинство жизни раньше времени. А некоторых Он усыпляет, чтоб нос свой не совали, куда не надо, из чистого бездумного любопытства, или по другой какой-либо причине отодвигает подальше. И многие доживают до старости, так ни разу смерти и не увидев воочию, а увидев только обряд погребенья. И они приходят или приезжают к началу этого обряда и всегда произносят одну и ту же глуповатую фразу: «Ну как же так, ещё позавчера был жив человек, а сегодня его хоронят?».
Короче говоря, сонное сознание жены всё отмечало. До мелочей. И уж точно отмечало, если он вставал. И она всегда ругала старика в его же интересах, мол, куда тебя несёт? У тебя утка есть. Но старика охватывало неуправляемое, дикое упрямство, и он говорил:
— Мне надо.
И тогда ничто не могло его остановить. Ни доводы, ни ругань, ни уговоры. Он в затмении вставал и, двигая по полу слабые, неподнимающиеся ноги, шёл к своей цели из последних сил.
Жена открыла глаза, увидела, что старика нет на месте, встала, подошла к туалетной двери. Спросила:
— Что ты там делаешь?
— Застрял, — ответил старик.
Жена подёргала дверь.
— Откинь крючок.
— Не могу.
Она ещё подёргала и поняла, что и она не может. Вышла в кухню, взяла тонкий нож. Попробовала поддеть крючок ножом. Не получилось. Дверь прилегала к выступу косяка, и нож насквозь не проходил.
— Ты давно там? — спросила жена.
— Давно.
— Почему не звал?
Молчание. Тишина. Не слышно ни одного звука. Ни дыхания, ни сопения, ничего.
Конечно, очень давно он там сидеть не мог. Она спит чутко, и несмотря на сон, слышала, как он выходил. И организм её был в готовности начеку. И когда старик не вернулся в предполагаемый момент, мозг дал ей знак и поднял на ноги. К сожалению, не сразу, как обычно — потому что очень она устала накануне и спала крепче, чем спит всегда. Значит, минут десять он мог там сидеть. Для него десять минут — это много.
Жена посмотрела на часы. Около пяти. Она влезла в халат и вышла. Позвонила в дверь напротив. Сосед — водитель чего-то рейсового — рано уходил на работу и спать был не должен. Дверь не открыли. Она позвонила ещё раз и вспомнила, что вчера была суббота, сегодня воскресенье. А по субботам и воскресеньям соседи на так называемой даче вкалывают. Витамины выращивая на зиму экологически чистые. Жена старика подумала и позвонила в другую дверь. Светка открыла. Заспанная и недовольная. У неё дачи нет. Жена старика сказала:
— Извини. Гена дома?
— Гена ушёл.
— Куда?
— От меня ушёл.
Светка, наконец, проснулась. Произнеся эту фразу.
— А зачем вам Гена?
— Туалет открыть.
— Какой туалет?
Светка, ещё не поняв, что произошло и в чём суть дела, зашла в квартиру. Подошла к нужной двери. Подёргала за ручку.
— Надо сорвать крючок, — сказала жена старика.
Светка дёрнула как следует, и дверь распахнулась.
Старик Полухин почти лежал на унитазе. Головой опираясь на белый сливной бачок. И протягивал одну руку. Ноги были стреножены трусами и не касались пола.
— Чего это он? — сказала Светка.
— Спасибо, — сказала жена старика Полухина. И Светка пошла спать. Обожая утренний сон.
— Ну что, доходился? — жена взяла старика за руку, потянула на себя, поставила вертикально и повела к дивану. Его ноги пошатывались и дрожали. — Надо ему. На унитазе ему надо умереть. Для красоты всем в пику.
То, что старик Полухин не звал её и не просил помощи, больше всего обижало жену. И злило. Потому что её злило всё обидное и непонятное. Ну почему он молчал, почему не крикнул? На крик-то, пусть слабый и короткий, у него хватило бы сил. Может, из своей вечной, идиотской скромности: не хотел будить и беспокоить. Может, из упрямства, не менее идиотского и не менее вечного. А может, и вообще не понимал он, что с ним происходит. Ночью у него голова работала совсем плохо. Ещё хуже, чем днём.
А если скромность, так она и в более молодые годы жену до белого и всякого иного каления доводила. Бесило её, что жил он в доме как-то бочком, стараясь никому не помешать, никого не тронуть, не задеть. В стороне от всех он жил. Или не в стороне, а в сторонке. На работе не боялся никого и ничего, стоя всегда на своём, как пень. А вне работы и должностных обязанностей, в домашней уютной обстановке, его узнать было нельзя. Вроде чужое место он в жизни занимал и ждал, что придут и сгонят его в любую минуту с позором. Он же за всю их совместную жизнь поесть ни разу не попросил. Всегда она у него спрашивала:
— Есть хочешь?
А он всегда отвечал:
— Не очень, — или: — Успеется.
И надо было понимать, что он голоден, как собака, потерявшаяся неделю назад.
— А сказать ты не можешь? — возмущалась жена. А он говорил:
— Ну, ты же занята.
Она когда-то давно, давным-давно, незабываемый эксперимент провела. Ради спортивного интереса. Не предлагала ему весь выходной день есть, с утра до ночи. Думала «попросит — дам». Не попросил. И спать собрался ложиться ни разу не евши. Конечно, она дала ему ужин, но кричала на него, и плакала.
— Я не служанка, — кричала, — и в мой супружеский долг не входит еду тебе по часам подавать. Хочешь — попроси. Или сам возьми. Холодильник на замок не запирается.
Но ничего этот её экспериментальный демарш, конечно, не изменил. И крик её не изменил, и плач.
А после случая с крючком — когда его не стало, когда вырвала его из стены Светка — старик Полухин всё же смирился со своей прогрессирующей немощью и с настойчивыми требованиями жены, стал себя как-то контролировать и в туалет ходить без настоящей надобности прекратил. Стал ходить в свою утку, которую до этого старался как мог игнорировать. А если нужно было другое, звал жену и говорил одно слово «проводи». Или сам шёл, держась за стену и спеша, чтобы успеть дойти. И ещё реже после случая с крючком стал он выходить из своего времени в общее. Только по крайней надобности выходил — как в общий коммунальный коридор из своей комнаты.
И он понял и осознал значение слов «в моё время». Он и сам произносил в жизни эти слова многократно и неосмысленно — мол, вот в моё время было так, а не так, как сейчас. Но то, что у него есть своё время, по-настоящему понял он лишь недавно. И у каждого человека оно есть — время, которое принадлежит только ему, а другим не принадлежит. Но в старости это «моё время» становится безраздельной собственностью, попадает во власть человека, прожившего его поминутно от рождения до текущих и истекающих дней. Наверно, поэтому старику Полухину легко вспоминалось всё — из любого отрезка прошедших лет. То есть не вспоминалось. Виделось. Что лишний раз подтверждает гипотезу о замкнутости личного человеческого времени, о временн`ом круге старости.
Когда время, идя вперёд, уходит и остаётся сзади, а ты, родившись и до определённого возраста — тоже идёшь вперёд, шагая в ногу со временем, прошлое от тебя всё удаляется и удаляется и, значит, вспоминать его чем дальше, тем труднее. Потом ты останавливаешься и уже никуда не идешь, а стоишь в ожидании. И тогда время — твоё время — не может идти как прежде, поскольку получится, что оно тебя бросило и пошло без тебя. Кстати, общее время так и поступает. А твоё время не может тебя бросить, и оно перестаёт идти вперёд и уходить, оставаясь сзади, и начинает обходить тебя, закругляться, окружать. Пока не превратится в круг с тобою в центре. И таким образом все события, все дни, какие ты прожил, оказываются, как уже было сказано, на окружности, на одинаковом от тебя расстоянии, все в пределах видимости, в пределах досягаемости. Мало того, они становятся всё ближе к тебе — потому что замкнувшись, круг начинает сжиматься. И когда он сожмётся окончательно и превратится в точку — ты умрёшь, потому что ты и есть эта самая точка, и деваться тебе из неё некуда. Нельзя убежать из точки. Из точки можно только одно — исчезнуть.
Возможно, старик Полухин всё это стал понимать и не столько понимать — понимают это в общем-то все, — сколько осознавать. Осознавать не отвлечённо, не в общем и целом, а применительно к себе. И всё остальное, его окружающее, перестало для него быть и существовать. Потеряло всяческий смысл и живой интерес. Старик стоял в центре своего круга и наблюдал за его медленным коловращением, понимая, что стоит в центре воронки, и она неспешно его засасывает. Так, во всяком случае, ему представлялось.
Но он не испытывал никакого страха перед надвигающейся бесконечностью, и других тому подобных страхов — не испытывал. Он, скорее, играл своим кругом, развлекался, останавливая взгляд на каком-нибудь его отрезке и получая этот отрезок — отрезок ушедшего несуществующего времени — в своё безраздельное пользование и распоряжение. Правда, не совсем в безраздельное. Как-то старик Полухин попробовал увидеть один незначительный эпизод своего детства не так, как было в реальности прошлого, а по-другому. Специально попробовал его изменить. И ничего у старика Полухина не получилось. Эпизод на одном и том же месте заклинивало, и он возвращался в своё начало. И старик Полухин, Полухин-ребёнок, мальчик, всё убегал и убегал от страшных дворовых мальчишек в фуражках, а она стояла у подъезда своего дома, всхлипывала, теребила ленту и видела, как он вместо того, чтобы героически принять неравный бой, бежит, мелькая ногами. И по щеке у неё замедленно катилась слеза. И подкорректировать, подправить позорное бегство, просто в своём воображении, в своей памяти подправить, не мог старик Полухин. Хотел — и не мог. И случай, когда мужик тот скользкий свалился в вестибюле на пол — вспоминался неизменно, со словом «инфаркт» в финале, и никак по-иному увидеть его не удавалось. С другими эпизодами всё выходило точно так же. Они не поддавались корректировке и правке, а повторялись в одном нерушимом окаменевшем варианте — так и никак иначе. Видимо, прошлое всё же нельзя изменить. Даже не имея корыстных, далеко идущих целей, даже для себя, для собственного маленького удовольствия — когда никто об этом и не узнает. Оно — прошлое — не терпит над собой никаких манипуляций, противится изменениям, а тем, кто пытается его изменить насильственно — как-нибудь обязательно препятствует. Или и того хуже — мстит. Прошлое может быть мстительным. Если, конечно, ему как следует насолить или же хорошо, основательно, в нём нагадить.
Впрочем, это никак к старику Полухину не относится. С прошлым у него всё более или менее в порядке. Так, видно, ему посчастливилось. Больше, чем другим его ровесникам, жившим с ним рядом плечом к плечу. Посчастливилось, во-первых, потому что он, в отличие от них, до сих пор продолжает жить и умрёт своей собственной естественной смертью. Сейчас это можно сказать с точностью и уверенностью. А во-вторых, ему повезло, что другие по его вине не умерли раньше времени, назначенного им природой. Один случай только был у него в жизни такой, с этим мужиком скользким. Но старик Полухин и на самом страшном суде скажет во всеуслышание, что не виноват он и что всё сделал так, как положено было сделать, поступив по чести и совести. Он заключение написал. А неприятный мужик, который за ним пришёл, прочёл, что там написано, вспотел, упал в вестибюле мешком и всё. Инфаркт миокарда с ним приключился обширный. И он умер прямо не сходя с места. Наверно, испугался, что посадят его надолго, и подумал «лучше умереть». Поэтому он умер. А не по вине старика Полухина.
Приходил сын. Часто или не часто, старик не улавливал. Но приходил. И оставался ночевать, и жил не по одному дню, а по несколько. Наверно, дня по два. Придя, сын всегда заглядывал к нему и спрашивал, как старик себя чувствует, и старик, если не спал и не был во временн`ой прострации, всегда отвечал «ничего». А сын говорил «ну и хорошо».
Потом сын уходил в свою комнату и оставался там. И заходил к отцу только по вынужденной какой-нибудь необходимости, матери, к примеру, помочь. Неудобно ему было почему-то — смотреть на отца в его нынешнем виде. Его вид неловкость в сыне вызывал, острую. Особенно если мать мыла или одевала отца, или меняла ему испачканное постельное белье. И сын сидел в своей комнате практически не выходя. За дверью мать ходила босиком туда и сюда, гремела посудой, шелестела упаковками от лекарств, и они в её неловких уже руках поскрипывали и потрескивали. В коридоре щелкал то и дело выключатель. Вслед за его щелканьем открывались и закрывались двери ванной и туалетной, и за ними что-то происходило. Потом текла и обрушивалась вниз с шумом вода. И снова открывались и закрывались двери, и снова щёлкал выключатель.
Сын под эти бытовые звуки что-то делал или не делал ничего у себя в комнате, а старику казалось, что он проспит и опоздает на работу, и это доставит ему лишние ненужные неудобства. Старику казалось, что он волнуется о сыне и его делах. Хотя и не знал старик Полухин, в котором часу начинается у сына работа, и где он работает, и кем работает — тоже не знал. То есть он знал когда-то, раньше, в прошлом, но забыл за ненадобностью это помнить. Да и у сына с тех пор всё могло измениться. Или не всё, а что-то. Всё не изменяется ни у кого и никогда, поскольку самое главное — течение времени — вообще неизменно. И всем известная избитая истина на самом деле звучит не так, как принято думать, а иначе. «Всё течёт, ничего не меняется». Вот как она звучит.
Волновался о сыне старик Полухин вяло, недолго и не попадая в реальное время суток. В основном, спросонья. Откроет глаза и вдруг скажет:
— Аня, Алик уже ушел?
А Аня — тоже со сна — ему ответит:
— Спи, ещё ночь. — Или: — Какой Алик? Он у себя дома.
И старик то ли засыпал снова и начинал видеть старые сны, то ли это были не сны, а всё те же самые игры со временем, свернувшимся в круг.
Потом, при случае, мать рассказывала сыну, что отец совсем уже ничего не соображает и не может отличить день от ночи и один день от другого, а сын её успокаивал — что в таком возрасте бывает и хуже. Он так это говорил, лишь бы сказать что-нибудь в утешение и в поддержку матери. Не от души он это говорил. Потому что занят был другим, занят какой ни есть, а жизнью, и смерть на себя его внимания не отвлекала, и приближения её пока не замечалось — если не присматриваться и глубоко не задумываться. А если задуматься хоть как-нибудь, то, конечно, сразу почувствуешь (вне зависимости от возраста) её приближение, её, громко говоря, поступь. Но сыну нужно было жить — каждый день, каждую ночь. Годами и десятилетиями. И он жил понемногу. Вместо того, чтоб присматриваться и задумываться. Да ещё о смерти.
И он говорил матери «бывает и хуже». Но он ошибался в оценках и выводах. Потому что ни черта не смыслил в том, о чём говорил. Не смыслил и смыслить не мог. Как никто не мог. Кроме старика Полухина. А сам он, может, и мог, но для него всё это было природным и понимания не требующим. Он в этом жил. То есть, конечно, доживал. Доживал свой срок, не заостряя внимания на том, как доживает и что по этому поводу думают другие. Он не был с ними, не был здесь. Он здесь бывал. Время от времени.
Наверно, это называется стоять одной ногой в могиле. И это стояние меняет человека, делает его другим, неузнаваемым, иногда — маразматиком. В понимании молодых и здоровых, конечно. А он никакой не маразматик, он просто отдаляется от этого мира и приближается к другому миру — миру пустоты, миру пространства без времени. К миру, о котором ни науке, ни религии ничего определённого неизвестно. Кроме того, что он другой. Да и это точно не известно, и вполне возможно, что никакого другого мира нет вообще. Ни в природе, ни в космосе, ни за его пределами.
И совсем не было старику Полухину жаль того, что он отдаляется и удаляется от жизни, и может быть, исчезает. Не потому, что ему не о чем было жалеть. Всем старикам есть о чём жалеть. Если они этого сколько-нибудь хотят. Нет, он уходил спокойно, так как ничто больше здесь его не занимало. Всё у него уже случилось и всё произошло. И он это почувствовал и осознал. Самое важное — это осознать. После чего всё и вся становится потихоньку чужим, отваливается, опадает. И человек обретает своё одиночество. Освобождается от интересов, от своей бывшей профессии, от людей, живших с ним рядом и вместе, отделяясь от них и отстраняясь. Они не нужны ему больше, хотя они есть, присутствуют и помогают дожить и преодолеть физическое сопротивление доживания, неизбежное в конце уходящей жизни. Но всё это они делают откуда-то извне, из-за стены, из другого жизненного измерения.
Именно поэтому старик Полухин часто не узнавал собственного внука, считая его сыном. Путая. Для него они слились в одно-единое привычное человеческое существо, в продолжение его самого, что ли. Внук, правда, противился этому слиянию, постоянно протестовал: «Я не Алик! Неужели трудно запомнить?». Но старик пропускал его протесты мимо себя, никак на них не отвечал и вниманием не удостаивал. И в следующий раз он опять называл внука Аликом, то есть именем сына. Не доходили до него никакие протесты. От протестов он был ограждён. Чем-то плотным и непроницаемым. Возможно, пространством, сжатым под воздействием сжимающегося времени. Той самой стеной между его измерением и их, между его временем и временем настоящим. Наверное, ему полагалась эта защита. Так как без неё он не мог бы доживать до конца. Он ведь потерял уже все свои прежние защитные оболочки, освободился от некой кожуры. Человек всю жизнь в ней живёт. В кожуре, в обёртке, и ею как-то защищается от окружающего мира и от себя самого. Обычно это работа. Или должность. Или семья.
Старику не вспоминалась его работа. Только иногда что-то, с нею связанное. Или кто-то, имевший к ней отношение. Один-единственный раз, ночью, что-то ему почудилось, и он стал требовать от жены, чтобы она отправила ткань в лабораторию — немедленно.
Жена трясла его плечо, говорила «окстись, какая лаборатория, какая ткань?». А старик повышал, сколько мог, на неё голос, говоря, что в одиннадцать родственники приедут своего покойника забирать, а у них тут ещё конь не валялся. Жена пыталась как-то привести его в чувства, а он не приводился и ругал её за то, что она плохо и халатно относится к своим первейшим обязанностям.
Но это было всего один раз и больше не повторялось. Очевидно, интерес к работе исчерпался за годы работы. А теперь он от него был давно и окончательно избавлен. Свободен. То есть освободился он от него и избавился, когда работать бросил. Сначала боялся бросать и освобождаться, думал, что же я буду целыми днями делать и чем жить, а как только бросил, так сразу его и отпустило на волю. И он обнаружил, что без своей работы прекрасно обходится. И что она давно уже ему не нужна.
Сейчас он освобождался и от всего остального. Потому что и всё остальное становилось так же ему не нужно, как когда-то стала не нужна работа. Правда, оставались кое-какие потребности и привычки, которые мозг сам воспроизводил, на автомате. А часть потребностей превращалась в привычки. Та же потребность есть, в смысле, регулярно принимать пищу. Не чувствовал в себе с некоторых пор старик Полухин такой потребности. А привычка к еде в нём осталась прежняя. И он привычно вспоминал в два часа дня, что нужно обедать, а в семь — что пора ужинать, и привычно ел, когда жена подавала ему еду. Хотя сам процесс поглощения пищи был теперь новым для него, а не привычным. Теперь он не сам ел, теперь жена его кормила. Так как он со всеми действиями, нужными для съедания пищи, не справлялся. Не мог он уже сидеть за столом, зачерпывать из тарелки суп, доносить его, не пролив, до рта и туда вливать. Не получалось у него всё это вместе. Из-за движений, разладившихся и ставших неточными. К тому же руки подрагивали, и суп разливался. А если это был не суп, а что-то более густое, то всё равно ложка вибрировала в руке и выпадала на стол, или он пачкал её содержимым лицо и одежду. В общем, жене было гораздо проще накормить его самой. И быстрее, и уборки меньше. А пользовалась она для кормления, между прочим, той самой детской ложкой, которой их сын учился есть без посторонней помощи. Когда-то ещё и вилка была у них такая же, как эта ложка, маленькая, мельхиоровая, но она в течение долгих лет жизни не сохранилась.
После еды старику становилось тяжело, и он охал, вздыхал громко, икал и издавал все прочие, не очень приличные, старческие звуки.
Конечно, жена не знала и не подозревала, что она совсем не нужна старику Полухину. Она наоборот, думала, что нужна, и была в этом абсолютно уверена. Она же только и делала, что за ним ухаживала — стирала его пелёнки, выносила за ним утку, мыла, брила, убирала, ходила за покупками и лекарствами, мерила ему давление, давала таблетки, без которых жить он давно не мог. Когда у старика барахлило сердце, она делала ему уколы.
Это неправильно говорят, что врачи своих близких не лечат, передоверяя их здоровье коллегам. Не лечат, когда могут не лечить, имея такую возможность. А когда не могут и выхода нет, то прекрасно лечат. И она лечила, оказывая ему всестороннюю медицинскую помощь и поддержку. Уже несколько лет был он её единственным и постоянным пациентом. Нет, она, как и прежде, ходила смотреть заболевших соседей и их детей, но от случая к случаю, если к ней обращались вместо поликлиники, помня, что в активной, трудовой, жизни она была врачом-терапевтом. А мужа своего она лечила изо дня в день, делая всё нужное, чтобы не дать ему умереть от гипертонического криза или от сердечной слабости. Она лечила его и думала «хорошо и слава Богу, что он стал моим пациентом, а не я — его».
И всё равно она была ему больше не нужна. Если бы она ничего этого не делала, старик Полухин просто умер бы и всё — к чему он давно уже был всесторонне готов, — а так он тяжело, через силу, жил. Не уделяя своей жизни внимания и не чувствуя в ней никакой физиологической потребности. И самой жизни тоже не чувствуя. Она шла себе от него отдельно, звучала за окнами. Дети бегали по двору и шумели. Их кто-то останавливал и тоже шумел. «Не ломайте деревья, оставьте собаку, Лёша, иди кушать». Подъезжали какие-то машины, хлопали их двери, играла разная музыка, чирикали воробьи и другие городские птицы. А старик Полухин ничего этого не слышал. Не из-за плохого слуха. Слух у него был нормальный, а для его лет просто хороший был у него слух.
Кроме сына и внука, приходила иногда парикмахерша. Она жила в соседнем подъезде, и её приводила жена. Стригла парикмахерша за полцены — сначала жену, потом старика Полухина. Парикмахерша подрабатывала в свободное время нелегально, втайне от хозяйки близлежащего салона и государства. Чтобы не платить ему сумасшедших налогов и как-нибудь кормиться и одеваться, и воспитывать подрастающую дочь.
Стригся старик Полухин охотно. И, бывало, жалел, что парикмахерша приходила редко, а работала быстро, и что волос у него на голове осталось непростительно мало. Потому справлялась она с прической старика Полухина за десять минут максимум. А жену стригла минут пятнадцать. И, уходя, сто раз говорила спасибо. За то, что дали ей заработать и принести в семью лишнюю пятёрку.
После стрижки жена всегда вела старика мыться. Сначала сажала его на край ванны, потом сдвигала на поставленный в ванну табурет, потом перебрасывала внутрь ванны его ноги. Отдыхала с минуту и начинала мыть. И мыла тщательнее, чем обычно, чтобы от состриженных волос не чесалось его тело. После мытья она так же ступенчато извлекала старика Полухина из ванны, и он ложился на свой диван и отдыхал. Чаще всего — спал на спине с открытым проваленным ртом. А проснувшись, опять отдыхал. Уже ото сна. В глубокой старости сон тоже утомляет тело, а если не утомляет, то отнимает тепло, сковывая не только мозг, но и суставы, и мышцы. И их трудно бывает вывести из неподвижности — чтобы они как-нибудь действовали, позволяя при надобности целенаправленно передвигаться. Если не в пределах квартиры, то хотя бы в пределах постели.
Всякий раз с появлением в доме парикмахерши старик радовался, взбадривался и чуть ли не возбуждался. Стрижка его всегда молодила как внешне, так и внутренне. Даже когда молодить его было ни к чему. По причине реальной, имеющей место быть, молодости. В этой своей молодости и в пришедшем за ней зрелом возрасте он посещал одну и ту же парикмахерскую на углу улиц Маркса и Базарной, и стригся у одного и того же старорежимного мастера. До его смерти стригся. С регулярностью один раз в месяц. И знал, в какой день недели он работает, а в какой выходной, и что отпуск ему дают в начале июля, знал.
Звали мастера дядя Ефим. Именно так его все и звали — без отчества, фамильярно. И свои, и чужие. Дядя Ефим спрашивал: «Стрицса, брицса, молодой человек?» А старик Полухин — тогда еще не старик — ему отвечал: «Как обычно». Имелось в виду, что постричь его нужно коротко, после чего побрить и приложить к лицу два-три горячих компресса. Сколько стоило всё это незабываемое удовольствие до войны, старик Полухин не помнил — с цифрами он всегда был не в ладу, — а в шестидесятые годы — помнил с точностью до копейки: стрижка под «Венгерку» полтинник и бритьё тридцать копеек. Старик Полухин давал дяде Ефиму рубль, и тот ему говорил «очень благодарен». И слегка наклонял себя в копчике. Раньше, кода он был не рядовым советским парикмахером, а совладельцем цирюльни, дядя Ефим вместо «очень» говорил «премного». Но Полухин этого «премного» уже не застал. По понятным историческим причинам.
А как-то придя стричься, он не обнаружил дядю Ефима на рабочем месте. И оказалось, что тот не выходной, не на больничном и не в отпуске, а на Сурско-Литовском кладбище.
Полухин вошёл и спросил:
— Где дядя Ефим?
А ему ответили:
— На Сурско-Литовском кладбище.
Ответили невыразительно и буднично, без отрыва от работы. На месте дяди Ефима какой-то рыжий молодой человек работал. Он и ответил. И никакой скорби или уважения к факту недавней человеческой смерти в свой ответ не вложил. Ни интонацией, ни чем другим.
А Полухин от неожиданности его ответа растерялся. Сказал совсем невпопад «извините, я попозже зайду» и ушёл.
С тех пор он стригся где вздумается и у кого придётся, и своего мастера не имел до самого вот этого времени, когда уже не он ходил к парикмахеру, а парикмахер ходил к нему по особому приглашению. И ему не вспоминалось ни одно парикмахерское лицо, которых много прошло перед ним за жизнь. Кроме лица дяди Ефима. Его лицо как раз вспоминалось отчётливо. Своё собственное так не вспоминалось, а его — вспоминалось. Почему-то.
Вообще, люди в полухинских воспоминаниях фигурировали в виде контуров, силуэтов, наборов каких-то особых и неважных примет. А чётких, сходу узнаваемых лиц в них было не много. И по какому принципу отобрала память эти, а не другие лица — загадка и тема для учёных-геронтологов. Но не по значимости в прошедшей жизни — это точно. И не потому, что старик Полухин их не любил или любил. Если бы по этому принципу память действовала, он бы вообще неизвестно кого в ней сохранил. Немногих он любил в жизни. И не любил совсем немногих. Потому что и некого было ему любить или не любить. Разве что самых своих родных и близких. А так, вокруг, кого он мог любить? Или не любить. Да ещё так, чтобы как-то по-особому помнить.
Пожалуй, наиболее прочно засели в его памяти кричащие лица. Лица, которые кричали на него. Например, лицо старшины-фельдшера в госпитале. И то, как это лицо в самом начале войны орало: «Разжирел! В строй его!».
Его призвали в самом начале, в июле, аннулировав год назад данную отсрочку. Но непонятно и нелогично — призвали и повезли, может, по сохранившейся с мирного времени инерции и разнарядке, не туда. Повезли не на запад, а на восток, в глубокий, можно сказать, тыл. На границу с дружественной Монголией. И они там, человек пять, напились извёстки. Ночью, после бесконечного марш-броска по голой выгоревшей степи, наткнулись на бочку. Жажда к тому времени мучила всех страшная, до сухости в кишках. Фляги давно опустошили. Ну, они и набросились на первую попавшуюся жидкость. Пока распробовали, что это не вода, было поздно. Оно, конечно, с первого глотка стало понятно, что вода плохая, не питьевая и пахнет какой-то гадостью, но что они пьют известь, поначалу не разгадал никто. И эта выпитая известь, может быть, оставила старика Полухина в списках живых. Потому что он попал в госпиталь, правда, в палату смертников, откуда обычно выходили вперёд ногами, а полк его погрузили в вагоны и на запад повезли, опомнившись. И сразу с колёс на передовую линию фронта бросили. Там он и остался, в полном своём личном составе. А Полухин счастливо выжил, один из всех, кто извести хлебнул. Потом его тоже на запад отправили, но уже не в самое пекло. И он не погиб, даже служа в артиллерии на конной тяге, под Сталинградом. Только всю жизнь последующую с желудком и кишечником маялся. Периодически. Колиты его донимали, гастриты и тому подобные заболевания желудочно-кишечного тракта. И лицо того фельдшера — тоже донимало временами. Во сне, допустим, снилось — как он кричал ему, ещё лежачему, «разжирел».
Да, кричащие лица действительно застревали в памяти прочно. И то застревало, как именно они кричали, как распахивали рты, как темнели от напряжения, как ворочали меж зубов языками. Мелочи, значит, застревали, штрихи к портретам. Даже если кричали эти портреты из толпы.
Чаще других ему виделось лицо, орущее в окружении сотни таких же лиц «Фридман, сколько ты душ загубил?». И не так всё лицо он видел, как его красный глубокий сухой рот. И орал рот эти слова не кому-то, а именно ему. Старик Полухин не знал, почему это было понятно. Но это было понятно и несомненно. Они переходили из одного учебного корпуса в другой, накинув на белые халаты пальто. Между лекциями. И у входа их встретила небольшая толпа. Толпа, шевелясь, вглядывалась в их лица, ища подходящие, а найдя — орала что-нибудь вроде этого «Фридман» и потрясала руками, сжимавшими кулаки и газеты. Его тогда вычислили сразу же. Хотя евреем он не был. Во всяком случае, никаким евреем никто его не считал. И он им себя не считал и не чувствовал. А нашлись, значит, такие, кто не только считал, но и ставил ему его смешное, трёхкопеечное, еврейство в вину. У него мать была еврейкой наполовину. Тоже по матери.
А его, значит, вычислили визуально и без труда. Несмотря на русскую фамилию, имя-отчество Федор Иванович и на совершенно славянский тип. Волосы, правда, у него вились и курчавились в молодости. По ним, видно, и определили его принадлежность, невзирая на их русый цвет. И что замечательно, не только тогда. Но и совсем недавно. Опять его и его национальную принадлежность вычислили. На этот раз сами евреи. Они подробно рассказывали и разъясняли, каким образом, им это вычисление удалось осуществить, но ни жена, ни тем более он так ничего и не поняли. Поняли лишь, что это как нельзя кстати и к месту. Потому что тогда у старика Полухина впервые случился очень тяжёлый криз с признаками микроинсульта. До этого у него тоже кризы бывали, но не такие, а более лёгкие. А тут еле он выкарабкался. И то благодаря выверенным действиям его жены. И впервые ему понадобилась так называемая утка. А купить её было можно, но дорого. И они не имели материальной возможности позволить себе такую роскошь — и без того на лекарства много уходило пенсионных денег. Вот тут и появились у них в доме евреи. Из благотворительного фонда «Путь милосердия». Пришли по собственной инициативе без приглашения, спросили, кто живёт в квартире, кто прописан, всё осмотрели в кухне и в комнатах, и старика Полухина осмотрели с близкого расстояния. Жена его стала говорить, что к евреям они отношения не имеют, а те её начали наперебой укорять, что нехорошо от своего народа отказываться и отрекаться, даже если это не ваш народ, а народ вашего мужа. Особенно когда возрождение еврейской культуры, жизни и традиций шагает по стране полным ходом и ненаказуемо никакими властями. Жена старика Полухина Аня с этим охотно согласилась — с тем, что нехорошо отказываться. А после их ухода она спросила у мужа своего, с которым жизнь прожила:
— Ты что, еврей?
Он подумал и сказал, что мать у него была наполовину еврейкой, крещёной во втором поколении. А сам он, значит, тоже родителями крещён, будучи на четверть евреем по рождению, но атеистом по воспитанию в советской семье и школе.
— Никогда этого не знала, — сказала жена.
А старик Полухин сказал:
— А если бы знала, то что?
— Ничего, — сказала жена. — Бог с тобой.
Не знала же она не потому, что старик от неё скрывал биографические сведения о матери. Нет. Ничего он не скрывал. Просто разговора такого никогда у них не возникало. Матери, когда они познакомились, давно не было среди живых. Она в сорок втором году умерла. В эвакуации. Их в Фергану эвакуировали, работой на строительстве канала обеспечив. А у неё порок сердца был врождённый. И она не выдержала жары, полуголодного существования и всех остальных тягот героической мирной жизни военного времени. Родственники, с которыми она туда поехала, рассказали потом Полухину, что похоронили её в одеяле. Так как гроб там взять было негде. И они завернули её в её же одеяло и похоронили. Он тогда спросил: «Одеяло коричневое, шерстяное?». «Да, — ответили родственники, — коричневое».
Отец старика Полухна тоже умер. То есть погиб на мосту. При панической сдаче города немцам. Пуля попала ему в живот, и он упал в воду. Его товарищ был рядом с ним и всё видел. И понёс чёрт отца в военкомат. Ему до пятидесяти лет в сорок первом меньше полугода оставалось. Мог бы и не ходить туда, как другие не ходили. И без него хватало, кого на фронт отправлять и под ружьё ставить против танков. Но он пошёл, опасаясь советских законов и боясь их нарушить. Таких, как он, в ополчение брали или окопы рыть. А воевать более молодых отправляли. Только не повезло отцу. Не успели они ничего вырыть, никаких окопов. В первый же день его воинской службы Красная армия город оставила. И он во время её бегства погиб.
И жена Полухина знала, конечно, что родители его в войну погибли. Но больше ничего о них она не знала. Ни о матери, ни об отце. Не говорили они с мужем на эти грустные больные темы. Поводов для таких разговоров как-то не находилось. Если бы хоть могилы остались, тогда, может, в поминальный день и поговорили бы о них, об их жизнях и их смертях, а так, не с руки говорить — ни с того ни с сего. И тем более расспрашивать, если сам человек о своих умерших не заговаривает. Вот жена и не расспрашивала. Чтобы лишний раз мужа своего не травмировать и не бередить.
А евреи привезли в скором времени для старика Полухина утку пластмассовую полупрозрачную, с нанесёнными на неё делениями в миллилитрах, и верёвочную лестницу для вставания с постели, и особо устойчивую палку на четырёх ножках. Для опоры и удержания равновесия. Хотя в тот раз после криза старик не остался лежать. Он окреп и ещё какое-то время сам вставал и передвигался по квартире, обходясь с горем пополам без подручных средств. Но евреи фонда дальновидно смотрели вперёд, в будущее. Они знали, что улучшение будет продолжаться недолго. И привезли всё вышеперечисленное, попросив жену Полухина подписать бумагу — что, мол, это даётся ей не насовсем, а на прокат, и она обязуется вернуть всё в целости и в сохранности, и в чистом вымытом виде, когда надобность в предоставленном медицинском оборудовании у неё окончательно отпадёт.
Помимо всего этого, громко говоря, оборудования, Полухиным стали возить ещё и бесплатные обеды. Из трёх блюд плюс салат четыре раза в неделю. Обеды вполне съедобные. И калорийно насыщенные. Так что их можно было растягивать на два раза.
Внук старика Полухина, узнав об обедах и прочих еврейских радостях, сказал:
— Хорошо быть евреем. Я тоже хочу.
А сын ему сказал:
— Сделай себе обрезание и будь. Желаю тебе большого еврейского счастья.
Сам старик Полухин эти разговоры никак не воспринимал — вроде и не присутствовал при них. Он сразу к ним никакого вкуса не обнаружил. Он после криза, временного выздоровления и последовавшего за ним постепенного ухудшения здоровья, стал отстраняться от реальности и уходить в себя, и оставаться в себе подолгу. Наедине со своим прошлым и своим будущим, и со своими лицами. Хотя большинство их и виделось ему смазанно, с минимумом характерных черт — лишь бы только можно было отличить одни лица от других лиц, действовавших в жизни и влиявших на неё по-своему. Пусть незначительно или косвенно, но каким-то своим особым образом. Сейчас все эти влияния были отчётливо видны и предельно понятны — как при разборе сыгранной шахматной партии понятны замысловатые ходы чемпионов и претендентов. Но это сейчас. После. Когда и влияний никаких нет в помине, и от самих лиц в большинстве ничего на земле не осталось. Да и в земле не осталось. Если не принимать во внимание кости. Кости, конечно, остались практически ото всех, потому что они разлагаются веками, а иногда не разлагаются тысячелетиями. Но это при условии, что их не трогают и не тревожат. Чего у нас нет и не может быть. У нас мертвецам не дают покоя точно так же, как не дают его живым людям. Так у нас как-то сложилось и повелось. Традиционно.
Однажды внук принес из школы человеческий череп в хорошем состоянии. С нижней челюстью и со всеми зубами. Сказал «я его выварю, внутрь лампочку заведу и на письменный стол поставлю. Для кайфа». Старик Полухин как раз в гостях у них оказался — у сына с внуком. И он молча отнял череп у внука, отвёз на кладбище и закопал в ограде у старшей сестры, недавно сбитой насмерть машиной — в 1991-м году, двадцать пятого августа. Она видела плохо и торопилась — боялась речь Ельцина победную пропустить по телевизору. Ну и выскочила на дорогу. Так, что водитель ничего не мог предпринять. Ни затормозить, ни отвернуть. Это и все свидетели подтвердили, и расчёты, проведённые специалистами из ГАИ.
А взял внук череп в новом парке культуры и отдыха молодёжи. Их учителя отвели туда на школьной практике, деревья в воспитательных целях сажать — вот там они на эти залежи черепов и наткнулись. В футбол ими играли класс на класс по олимпийской системе, веселились.
Парк как раз по старому кладбищу был разбит, на пологом склоне оврага. В соответствии с планом реконструкции и развития города. И тех, кто составлял такой перспективный план, понять нужно. Город многие десятилетия разрастался быстро и стремительно. И людей со временем умирало всё больше, потому что всё больше рождалось. Из-за этого городские кладбища жили недолго. Лет пять-десять на них хоронили, потом двадцать пять — не хоронили, а потом их сносили с лица земли и разбивали на их месте парки и скверы, в которых деревья принимаются и растут очень хорошо и даже буйно. Причём парки — это ещё в лучшем случае. Бывает, что на месте снесённых кладбищ стадионы строят, и на них соревнуются и играют в футбол спортсмены, свистят и орут, и матерятся болельщики. Или новые жилые массивы возводят на бывших кладбищах, микрорайоны со всеми бытовыми удобствами. И люди там живут буквально на костях других людей, рожают на них детей, растят их сколько успеют, и умирают. И что будет с их собственными костями, не могут себе вообразить ни точно, ни приблизительно, ни примерно. Да и вряд ли на этом вопросе не жизни, а смерти сосредоточивают свои повседневные мысли. Максимум, на чём они их сосредоточивают, это на собственных похоронах. Желание быть похороненным «по-людски» с музыкой и поминками, то есть с почестями и скорбью — одно из самых распространённых и самых последних человеческих желаний. Часто — самое последнее. И оно может держаться до последнего, как говорится, вздоха. А вернее — до последнего выдоха. Когда уже все, в том числе простейшие, мерцающие желания — вроде выйти на улицу, посмотреть в окно, погладить кошку — перестают всплывать в мозгу. И старику Полухину до какого-то момента тоже это желание было не чуждо и оно его не то чтобы слишком волновало, а занимало в мыслях своё определённое место.
И старик Полухин подзывал жену и говорил ей. Жуя слова и буквы:
— Ты сними, — говорил, — деньги с книжки — пускай дома будут, под рукой. На всякий случай.
Жена говорила:
— Какие деньги? Лежи себе, спи.
А старик говорил:
— Да, деньги не снимай, сними проценты. С той книжки, что мы в семидесятом году открыли, тринадцатую зарплату получив.
Он говорил это и тут же забывал, переключаясь на что-то другое, а у жены портилось настроение, и она напоминала сыну при первом же удобном случае, что отец совсем плохой, что угасание происходит прямо на глазах, а денег, если что, у неё ни гроша, и даже нового белья на смерть ему не приготовлено. Сын морщился, выражал своё недовольство темой, говорил «ладно, отстань, случится — найдём денег на бельё. Чего раньше времени дергаться и волноваться?». Мать отставала, но ответом сына бывала недовольна. А сын думал — неужели она не понимает, что не могу я прийти к кому-либо и сказать «дай денег на похороны отца». Не могу, потому что он обязательно спросит ради приличия «а когда похороны?», и что мне отвечать? «Отец ещё жив»?
После такого разговора сын обычно не оставался, а уходил, и не появлялся дольше обычного, звоня, правда, по телефону. Потому что ему тоже негде было взять денег, чтобы собрать достаточную сумму на предстоящее в скором времени событие, и это его в собственных глазах унижало, и он старался не думать о своей неспособности. Он бы и не думал о ней, но ему внушили когда-то походя, посредством правильного воспитания, что похоронить своих родителей есть не что иное как долг, и каждый человек его обязан неукоснительно выполнить. Если жизнь идёт по заведённому порядку, и у него есть по отношению к кому выполнять этот долг. Потому что бывает и всё наоборот, вопреки жизненному замыслу. И родителям приходится хоронить своих детей, хотя они делать этого не должны. Для родителей это не долг, а несчастье и горе. Такое горе, какого и злейшим врагам желать не принято. И недаром родители почти никогда не оставляют могил своих детей, никуда от них не уезжая. Даже тогда, когда жить в их близи становится почему-нибудь невыносимо. Дети — уезжают от могил родителей, и далеко уезжают, в другие страны, а родители — нет. Или крайне редко уезжают. Когда уж совсем деваться некуда и мало от них что зависит.
Конечно, сын не снимал с себя и понимал свою ответственность. Но понимать — мало и недостаточно. А всё другое было не в его скромных силах. Не смог он к новым требованиям и реалиям приспособиться, не смог найти себя и верный образ жизни на сломе эпох и формаций. Да и не искал, упрямо твердя «я, не что-нибудь, между прочим, я ракеты конструировал дальнего радиуса действия, которые в космос летали, и чего это я должен к реалиям приспосабливаться и себя насиловать? Реалии завтра изменятся, и с чем я опять останусь? Наедине с собой».
Единственное, что он сейчас прикидывал — это, у кого можно будет денег одолжить на длительный срок без процентов. Прикидывал, кто из старых его знакомых друзей, имеющих сегодня средства и возможности, дать способен, а к кому и обращаться смешно. И выходило, что людей, на которых он мог как-то рассчитывать и надеяться, немного — не каждый второй и не каждый пятый. И всё-таки они есть, надёжные более или менее люди. Что уже хорошо в таких условиях и в такой ситуации. Многим вообще не на кого надеяться и рассчитывать, а уж помощи ждать и подавно не от кого. Ни в какой момент жизни, даже в самый критический и тяжёлый.
А когда его собственный сын напоминал ему, хамя, что он мог бы, как другие, настоящие отцы с большой буквы, зарабатывать много или хотя бы достаточно денег, чтобы давать ему на простейшие карманные расходы и на то, чтоб он с девушкой сходил в кафе поесть мороженого, сын старика Полухина ничего не отвечал, а шёл к родителям и оставался там на ночь, а если это была, допустим, пятница — то и на выходные дни. Иначе бы он ругался со своим сыном и доказывал ему, что не должен человек сам себя ломать из-за добычи денег и что зарабатывать — ещё не значит жить, и что он сам уже взрослый и тоже мог бы что-нибудь заработать, хотя бы на себя, хотя бы на дорогу в институт и на завтраки. И что другие молодые люди не клянчат у родителей на девушек и мороженое, а работают и учатся одновременно, и ничего страшного, и одно другому у них не мешает.
Нет, всё-таки круг времени старика Полухина был не совсем правильным кругом. И видимость в разных точках окружности была разной. Наихудшая — в том месте, где хвост, окончание, захлестывалось за детство — за начало, значит, и одно время — а именно время детства — накладывалось на другое — время старости и приближения смерти. Здесь старик Полухин вообще, можно сказать, ничего не видел. Хотя, возможно, потому не видел, что в этот конечный временной отрезок ничего с ним и не происходило, а то, что происходило вокруг, проскакивало сквозь старческое сознание, никак в нём не задерживаясь и не отражаясь. Поэтому старики и не помнят того, что было с ними вчера. Нечего им помнить — вот они и не помнят.
А начало, раннее детство, наоборот, очень часто им вспоминается и видится всё лучше и лучше, так вспоминается, как за всю жизнь не виделось и не вспоминалось. Иногда — вспоминается впервые. Поскольку в молодом и ином возрасте человек помнит своё детство далеко не с начала, и к тому же обрывками, где перемешаны собственно воспоминания и рассказы родителей. В старости же, перед окончанием жизни, детство в мозгу часто восстанавливается — у кого в полном объеме, у кого — в отдельных, но многочисленных подробностях. Зачем нужно человеку это восстановление, почему оно происходит? Может быть, чтобы он приблизился вплотную ко времени, когда его ещё не было на этом свете, а приблизившись, вошёл в то время своего несуществования там же, где из него вышел. Чтобы временной вход совместился с временным выходом, и они стали бы чем-то одним. Может быть, после этого приближения и сквозь знакомый выход легче возвращаться туда, откуда ты пришел, туда, где тебя уже не будет. Не будет никогда.
Или это здесь тебя не будет? А не вообще. Если так, то уходить должно быть совсем легко. Поскольку тогда речь уже не об уходе, а о чём-то, похожем на переезд. Или переход. Очень дальний, но всё-таки переход. В другое пространство, другое качество, другое физическое состояние или измерение — это всё равно. Человеку не так важно, где быть, ему важно быть. Он, конечно, не сразу понимает это, он к этому пониманию постепенно подступает, в результате почти всей своей жизни. Но в конце концов, подступает, приходит. А придя, он видит, что и «как» быть — тоже не столь важно. Он просто перестаёт принимать это «как» в расчёт и во внимание. За редкими, уже упомянутыми где-то выше, исключениями. Когда сквозь пелену существования прорывается, допустим, радость. Ощущение радости. В остальное время — одно-единственное, цельное ощущение: ровное и слабое ощущение существования. Хотя, никакое оно не ровное, оно слабеющее, то есть оно сходит на нет. Незаметно, тихо, но неизбежно сходит, из существования превращаясь в несуществование, из бытия — в небытие.
Естественно, что все другие, местные и локальные, ощущения ослабевают и уходят раньше. Старый человек лишается их, часто доставляя неудобства близким и окружающим. Потому что вместе с ощущениями он теряет — именно теряет — и стыд. Стыд нужен только тогда, когда имеет значение, как и что думают о человеке другие люди. Старику Полухину давно было совершенно безразлично, что о нём думают, и люди для него значения не имели. Потому что они были вне. А всё, находящееся вне — его уже не касалось. Его не касалось и многое из того, что было внутри него. В нём по-прежнему происходили какие-то жизненные процессы, но сознание их в себе не запечатлевало, и значит, они происходили бессознательно. Ясно, что стыда он из-за этого безразличия и этой невольной бессознательности лишился. Так же, как и чувства брезгливости, и многих других чувств, свойственных ему ранее, в течение жизни. Правда, чувства оживают во время воспоминаний, но их нельзя назвать чувствами в полном смысле слова, их скорее можно назвать воспоминаниями о чувствах, тенями чувств.
Понятно, что долго так, без чувств, жить нельзя. Слишком медленное умирание бывает так же мучительно, как и слишком медленное рождение. Но слишком медленным оно бывает не очень часто. И без чувств живут недолго. До тех пор, пока не уйдут все — даже самые сильные — чувства. По-настоящему сильные, а не те, которые сильными считаются по недоразумению. То есть не пресловутая любовь здесь имеется в виду, а, скажем, боль. Раковые больные, страдавшие от страшной, невыносимой боли, перед смертью перестают её чувствовать. Им кажется, что наступает облегчение и улучшение, что боль уходит от них. А это не боль уходит. Уходит последняя способность — способность чувствовать.
Жена переносила всё это как обыкновенную неизбежность. Она терпела и на судьбу в основном не жаловалась. Будучи всего на три года моложе старика Полухина, жена нормально видела, слышала и соображала, устойчиво двигалась — и по дому, и за его стенами, и на любые расстояния. И ухаживала за полубесчувственным стариком тоже, конечно, она. Потому что, а кому ещё было за ним ухаживать? Сын с внуком жил отдельно, причём без жены. У него хватало забот и домашней работы, и всего, как говорится, хорошего. Он у них получился невезучий и неудачный — сын. Или, может быть — неудачливый. Так вроде во всём обыкновенный и не хуже других, но — без удачи. В песне когда-то пели на всю страну «а любовь прошла стороной», у сына стороной прошла не только любовь, но и удача. Хотя и любовь — тоже. Любовь прошла, а плод, как говорится, остался. Теперь он ещё — плод, в смысле — обвиняет сына в том, что рос без матери, и материнской ласки недополучил. Говорит:
— Ну что ты, не мог её удержать?
— Не мог, — отвечает ему сын старика Полухина.
Он не в состоянии доступно растолковать это сыну, так доступно, чтоб он поверил. Он знает, что никто и ничто бы её не удержало. И что она уходила не от, она уходила к. Сначала ушла к нему, потом — к другому. Она всё время уходила куда-то, всю жизнь уходила. И всю жизнь именно так — к кому-то, куда-то, а не откуда-то и от кого-то. Хоть в этом она была абсолютно, на сто процентов, права. Уходить только так и надо: не от кого-чего, а к кому-чему.
Но ничего этого он упорно не говорит своему сыну, он говорит ему только:
— Не мог.
— А может, ты и не пытался? — не отстаёт от него сын.
— Может, и не пытался.
Примерно те же слова говорит жена старику Полухину, когда с ним случается неприятность.
— Ты что, не мог удержаться, — говорит жена. — Или, может, ты не пытался? Зачем тебе пытаться, не ты ж убираешь, а я.
Старик ничего ей не отвечает. Он стоит на полпути к туалету и не двигается. И жена стаскивает с него одежду, бросает её в ведро, самого старика ставит в большую миску и моет его мыльной губкой. Потом она заливает испачканную одежду водой и воду сливает в унитаз, заливает и сливает. Несколько раз. Чтобы не так противно было стирать. Старик в это время тупо сидит без штанов в кресле или лежит в забытьи на постели. Жена, закончив стирку и развесив всё на балконе, приходит, вынимает из комода чистые трусы, из шкафа чистые штаны и одевает молчащего неподвижного старика. Он никак не участвует в одевании — не мешает и не помогает. Потому что он вообще ни в чём уже не участвует. Он, как говорится, тянет. Тянет давно. И много ли ещё протянет, неясно. Для его состояния здоровья и его возраста — пять лет много, и три года, и год. Для него сколько ни протянуть — всё хорошо и всё много.
И давно пора ему о душе подумать. Но он о ней не думает. Он и в более молодые годы, когда трупы потрошил, не думал ни об их душах, ни о своей. И когда вышел на пенсию, и у него появилось для всяких раздумий и помыслов не занятое ничем время — не думал. Не думает и сейчас. Возможно, потому, что не знает он даже отдалённо, как это нужно делать. И что нужно о ней, о душе то есть, думать. Наверное, думать о душе означает думать о Боге. Но это ещё более непонятно, чем думать о душе. Так как ну что можно о Нём думать в конце жизни? О Нём раньше надо было думать. Если уж думать. При жизни. В её деятельной, так сказать, стадии. Когда эти мысли могли как-нибудь на жизнь повлиять, как-нибудь её изменить. А теперь думай не думай — всё одно. И старик Полухин не думает. Да и не способен он к думанью. Закоснели у него мозги и для думанья стали не слишком пригодными. В этом, пожалуй, жена его недалека от истины. Говоря, что он ничего не соображает. А старик Полухин, может, и соображал бы. Но нет у него причины соображать. И ничто его к думанью не понуждает. Человек же просто так, от нечего делать, редко думает целенаправленно. Он — даже в расцвете лет и в здравом крепком уме — думает, когда в этом необходимость есть и когда эта необходимость как-то над ним тяготеет. Старик Полухин не чувствует такой необходимости. И никакой другой необходимости не чувствует. Поскольку живёт он уже, если помните, без чувств. И всё это мытьё, раздевание и одевание для него ничто. Он ничего этого не замечает вовсе — так, как не замечает с некоторых пор вообще ничего и никого.
Не мог он замечать всё подряд в двух временах — и в этом времени, и в прошлом. Вот в прошлом он замечал всё. И жил он, можно считать, прошлым и в прошлом. Что-то проживал заново, что-то — несмотря на потерю чувств — заново перечувствовал. Чувств у него не было в настоящем, а в прошлом они, пусть в качестве теней, были. Они остались в прошлом и там (но только там) даже сохранили свою силу. И казались иногда совсем свежими. Те же страхи юношеские накатывали на него как будто сейчас, как будто не имели они черт-те какого срока давности.
Самый сильный страх, который он помнил, это страх за своих родителей. Старику Полухину было лет пятнадцать или чуть больше, когда он впервые за них испугался. Его тогда охватил не страх, его охватил ужас. Он на секунду представил себе, что его родители — шпионы, и весь похолодел, застыл. А по голове у него пробежали мурашки. И он думал: «А вдруг? Почему бы и нет? Шпионы же не бывают только шпионами и больше никем, они тоже бывают чьими-то родителями — отцами и матерями». И что самое интересное и примечательное, старику лет пятнадцать назад сын рассказал, как в пять, наверное, лет от роду, году, значит, в пятьдесят седьмом, в одну прекрасную темную ночь испугался он того же самого. Заподозрив в шпионстве своего отца, то есть его, нынешнего старика Полухина. Хотя тогда всё это уже давно кончилось и почти забылось. Но видно, что-то осталось, продолжая носиться в атмосфере и поражать неокрепшие умы и чувства детей. И, возможно, не только детей, а и взрослых.
А старик за своими родителями следил. По стенке распластывался, за кустами колючими скрывался, чуть ли не на брюхе ползал по долинам и по взгорьям. Школу пропускал, чтобы проверить, идут ли мать с отцом на работу или, может быть, занимаются чем-то совсем иным, контрреволюционным и антинародным, и в корне предосудительным. Мать потом его одежду отчистить не могла и страшно удивлялась, где можно так испачкаться, будучи совсем уже взрослым юношей.
Что бы он делал и как себя вёл, если бы его подозрения оправдались, Полухин не знал. Но он точно помнил, что идти в органы и честно доносить на родителей, не собирался. Это ему в голову не приходило. Он собирался уговорить их бросить свою вредную шпионскую деятельность на благо вражеских держав и народов, чтобы никто о ней не узнал и до неё не докопался. А он будет молчать. На него как на комсомольца надеяться можно и можно положиться.
И даже когда в результате слежки подозрения Полухина окончательно не подтвердились и развеялись, страх всё равно в нём остался. Безосновательный, неоправданный, но остался. Позже старик Полухин узнал, что страхи бывают у всех детей и у подростков в период их полового созревания, и у юношей. Иное дело — какие это страхи, какого содержания. В нормальных успокоившихся странах нормальные дети и подростки испытывают совсем другие страхи. Распространённые и изученные медиками-психиатрами всего мира. Это страх темноты, например, или так называемый безотчётный страх. Страх смерти, кстати. Обычно он наваливается на детей, когда они впервые понимают, что обязательно, неминуемо умрут. Что не будут жить без конца то есть вечно. Это всегда неожиданное открытие приводит ребёнка в оцепенение, вгоняет в ступор. Он не может этого постичь — как так — его не будет? Всё будет и все, а его — нет. Он пытается постичь. Изо всех сил пытается. И — не может. Не зная, что этого и нельзя постичь, и пытаться, значит, не стоит. Всё это действительно страшно. В особенности для детской, несформированной психики. Страх смерти и на взрослых иногда ужасающе действует, превращая их в больных безвольных существ. Да, именно безвольных. Потому что страх смерти лишает людей воли. И проходит этот страх — полностью проходит — только в старости. В глубокой старости. Поэтому глубокие старики умирают легко и бесстрашно. Всё понимая и ничего не боясь. Наверно, им, помимо всего прочего, открывается — что их ждёт после жизни и её окончания, и они узнают, что бояться им собственно нечего.
Старик Полухин совсем не боялся смерти. Произнося иногда не ради красного словца, а искренне «не надо мне обедать, мне умирать надо». Или подобную какую-нибудь фразу произнося. Он пережил свой страх смерти. Теперь ему осталось пережить свою смерть. То есть не пережить, конечно, а дожить до неё и её принять.
К слову, если говорить не о стариках вообще, но о конкретном старике Полухине в частности, то он от страха смерти освободился раньше, чем дожил до последней стадии старости. В порядке исключения. И благодаря узкой медицинской специальности патологоанатома. Когда каждый день имеешь дело с трупами всех разновидностей, этот страх сначала притупляется, а потом исчезает. Из-за будничности. Страх не может быть будничным. Если страх становится будничным — это уже психическое заболевание. А Полухин всегда психически был абсолютно здоров и годен.
Несколько первых лет его преследовала необходимость как-то от работы отвлекаться. Он же каждый раз ощущал, что приходит сразу после смерти, следом за ней. И каждый раз видел в трупе бывшего — и совсем недавно — человека.
Коллеги его, в особенности младший медперсонал, регулярно выпивали, веселились — радуясь всем проявлениям жизни и презирая таким несложным способом смерть — как свою, так и чужую. Часто они делали это прямо на работе, то есть в морге. И прекрасно себя при этом чувствовали. А он не мог. Пить. Из-за той извести, выпитой во время войны и ставшей причиной гастрита и колита. Видимо, поэтому он активно участвовал в художественной самодеятельности, играя на трубе. Жена никогда этого не понимала. Этого его увлечения. Говорила «ты что, на работе не устаёшь физически и морально? И неужели охота тебе вечером дуть в трубу? Лучше бы полежал, почитал книгу смешную или телевизор посмотрел». А он говорил, что ему нравится играть на трубе. И играл в первом составе оркестра туш и гимн на разных официальных праздниках, в ДК завода Карла Либкнехта, играл на демонстрациях трудящихся, на смотрах художественной самодеятельности, на фестивалях и юбилеях. Он играл везде. Играл, как написано в нотах, ведя партию трубы от и до, в точном ритме и темпе, и без фальшивых неправильных звуков. Только один раз отказался он играть. На похоронах директора завода. Руководитель оркестра — дирижёр и капельмейстер — спросил у него:
— Почему?
А он сказал:
— Нет и всё. Хватит того, что я их вскрываю.
Тогда руководитель сам взял в руки трубу и сам сыграл. Он умел играть на всех духовых инструментах, потому что когда-то закончил с отличием консерваторию в городе Харькове. И больше старика Полухина к похоронным мероприятиям не привлекали, и партию трубы на них, если приходилось, всегда вёл сам руководитель духового оркестра лично.
А в остальном играл старик Полухин на своей любимой трубе до самой пенсии. Сначала, значит, понятно зачем, а потом по привычке. С какого-то времени трупы его волновать совершенно перестали, и он осознал все преимущества работы с мёртвыми, а не с живыми людьми. Главное преимущество состояло в том, что мёртвые люди — это уже не люди, а набор химических элементов, биологический материал. И никакого вреда этому материалу врач причинить не может. В то время как, допустим, хирург иногда получает живого человека и, применив свои радикальные методы лечения, превращает его в набор химических элементов. Поняв всё это, и проверив на практике, старик Полухин очень за себя порадовался, что стал после мединститута именно патологоанатомом. А когда он выбирал для себя эту не слишком распространённую среди людей стезю, его однокашники очень искренне удивлялись, говоря, что врачи призваны избавлять от страданий живых, а не копаться во внутренностях мёртвых. Что выбрав эту узкую специальность, он не будет врачом, врачевателем, а будет всего лишь прозектором. И он не мог разъяснить им, почему делает так, а не иначе, и что это в нём за такие фантазии берут верх над здравым смыслом. Он и для себя не очень-то мог это прояснить. Может, у него к живым людям предубеждение в подсознание было заложено. Как-нибудь генетически. И он интуитивно стремился иметь с ними как можно меньше дел и контактов.
Тут, надо сказать, он вместе со своим подсознанием не всё предугадал. Поскольку почти у всех мёртвых есть живые родственники и живые какие-нибудь начальники, сотрудники и друзья-товарищи. И они всегда в чём-то заинтересованы, им всегда что-то нужно — даже от смерти. И часто они пытались всякими окольными путями воздействовать на Полухина и давить на него грубо с позиции силы, применяя прямые и косвенные угрозы. И деньги ему давать пытались. Ну, чтобы он, например, написал, что покойник при жизни, в самом то есть её конце, был пьян и невменяем. Или наоборот, вёл машину в совершенно трезвом состоянии. Полухин всегда выслушивал эти предложения, просьбы и требования, глядя в пол, и говорил:
— Заключение получите завтра у заведующего отделением.
Ему втолковывали, мол, вы поймите, этого уже не вернёшь к жизни, а если написать, что он трезвым и здоровым с крыши упал, пострадают невинные ответственные лица, достойные лучшего будущего. А у них семьи. Им жить надо.
Полухин говорил:
— Вы не волнуйтесь, я всё понимаю, — и говорил: — Заключение получите завтра у заведующего отделением.
И писал то, что считал нужным. Даже если в смерти больного виноват был знакомый хирург его же больницы, коллега, можно сказать, и товарищ по работе. Не из упрямства писал или какой-то честности неслыханной и не для того, чтобы насолить кому-то и кого-то по заслугам и по справедливости наказать, а просто не знал он, что можно написать, кроме и вместо того, что он сам видел, своими глазами, и в чём был на все сто процентов убеждён.
А другие, конечно, называли его упрямым ослом и спрашивали — откуда только такие берутся, и не находили ответа. Им казалось, что у него характер твердокаменный и не гибкий, и что он получает специфическое удовольствие от того, что делает по-своему, а не так, как его просят — не идя ни у кого на поводу и ни в чьё положение не входя.
Но настоящих неприятностей у него, можно считать, никогда не бывало. Ну, вызывал главврач, что-то такое выговаривал, мол, надо к пониманию людей стремиться, идти навстречу, то-сё. Полухин слушал его, глядя обычно в пол, и уходил, когда его отпускали, при своём мнении оставшись и выговоров близко к сердцу не приняв. Потому что он был в своей выполненной работе уверен и никаких главврачей не боялся. Он, в отличие от главврачей, всегда место себе мог найти, в любой трудный момент, по желанию и по выбору. Патологоанатомов в городе вечно не хватало. В той же судебной медицине, допустим. Да и в других крупных клинических больницах тоже. Старик Полухин по этому поводу так говорил полушутя-полусерьёзно: «Двери моргов, — говорил, — для меня всегда гостеприимно открыты».
И его, в конце концов, оставили в полном покое, и он делал то, что делал, и так, как делал, и никто ему не указывал и его не доставал. Все с некоторых пор удостоверились, что с Полухиным на скользкие темы говорить бессмысленно, и не говорили. Может, они говорили с его более молодым и сговорчивым коллегой, а может, как-нибудь по-иному решали свои проблемы. На другом, более высоком, уровне жизни.
Сейчас, кстати, тоже говорить с ним было бесполезно — как бесполезно говорить с дверью. Он не поддерживал никаких разговоров. Жене, и то казалось, что молчит он целыми днями из своего упрямства. Говоря лишь в самых, ему необходимых случаях. И понимала его смятую невнятную речь одна жена. А больше не понимал никто. Сын, и тот не понимал. Это тоже было похоже на детство. Когда мать понимает, что говорит её ребёнок, а другие люди его лепета не понимают. Только вместо матери у старика Полухина была жена. Она вообще была ему вместо матери. И с этим ему крупно, можно считать, повезло в жизни. Потому что далеко не всем мужчинам жёны при надобности становятся матерями. Жена может стать другом, может любовницей, может соратником в какой-либо борьбе. А матерью — не детям своим, а мужу — стать ей гораздо труднее. И тут дело не в любви между мужчиной и женщиной и не в её отсутствии, а в чём-то другом, что, наверное, выше, хотя и неприятнее любви. Может быть, в каком-нибудь особом понимании сути, а может быть, в ощущении целостности. Жены с мужем. Целостности и невозможности из-за неё уйти или отказаться ухаживать, или ухаживать, но так, как делают это сиделки и санитарки, нанятые за деньги. Им безразлично и всё равно — говорит их временный подопечный или не говорит, упрям он или, наоборот, покладист. Они исполняют свои неприятные обязанности, чтобы заработать, и больше ни для чего. И тот, за кем они ухаживают, волен хоть головой о стену биться, своё упрямство и свой дурной характер демонстрируя — их это не тронет и не разжалобит. А умрёт один старик, у них будет другой и третий, и сколько надо, столько и будет. У нас, слава Богу, много престарелых граждан. Некоторые социологи и демографы никак не могут понять, откуда. Вроде условий для долгожительства нет ни малейших. Ни экология, ни экономика, ни политическая ситуация к продолжительной жизни не располагают, а стариков — четвёртая часть населения довольно большой страны.
А между тем всё просто. Ведь сколько лет, скольким поколениям не давали умереть своей, природой определённой смертью, не давали дожить свои жизни до конца. Вот дети и доживают за себя, за своих не доживших родителей и за родителей родителей. Не все, конечно. Причина тут не одна. Среди долгожителей есть и ужасные люди, настолько ужасные, что им Бог смерти не даёт. Он от них сначала отворачивается. Потом забывает о них и об их существовании. И тогда они заживаются, живут долго и дурно. А умирают мучительно. И тоже долго, на протяжении лет — днями и ночами, часами и минутами. И не могут умереть. И мучаются, и мучают окружающих. Другие старики тоже, конечно, мучают, но не специально. Эти же мучают потому, что от чужих мучений им самим становится легче жить и не умирать. Хотя умереть давно пора бы. А не могут умереть они всё потому же: Бог о них не помнит. Не помнит, что пора призвать и привлечь их к себе. А может, помнит, да не хочет, поскольку таких там и без того в избытке.
Но к старику Полухину последнее касательства не имеет. Ему и за родителей полагалось, и просто повезло жить долго. И с женой повезло по-настоящему. Что врачом она оказалась, и человеком, и что он одряхлел и ослаб в процессе жизни и старения, а она нет. Сыну их с женой повезло несравнимо меньше. А если говорить всё как есть, то не повезло ему с женой вовсе. Как будто женился он на ней не мальчишкой, имея жизненный опыт и голову на плечах — а всё равно промахнулся. И ухаживать за ним в старости, конечно, никто не будет. Некому будет за ним ухаживать. Особенно так, как мать за отцом ухаживает. И лучше бы ему до такого престарелого немощного состояния не доживать. А то придётся умирать в собственном дерьме, в нём захлёбываясь. Это, грубо говоря, главный вопрос жизни — почему человек рождается и умирает в дерьме? То есть вернее, он самое начало жизни и самый её конец проводит в своих испражнениях. И если в начале всегда (ну, почти всегда) есть кому за ним поухаживать и его обмыть, то в конце… Тем, за кем ухаживают до конца, действительно можно только позавидовать, и порадоваться за них можно, душой не кривя.
И тут задача мужской жизни просматривается сжато и ясно. Родился сам, женись на женщине, которая любить тебя будет до смерти (и никак не меньше) и роди с ней себе подобных, и воспитай их так, чтобы они не дали тебе помереть в говне. Если вдруг жена раньше тебя умрёт. Не смог жениться, родить и воспитать как следует — расплатись. Именно этим — смертью в собственной дряни.
Но может, никакой такой задачи и никакого такого смысла в жизни нет и не должно быть. Может, Создатель просто даёт таким образом понять человеку — кто он есть в действительности? Ставит его на место. На своё место, естественное и ему приличествующее. Намекая, что и Библию человек не совсем точно понял и не вполне правильно записал, слукавив. И не «из земли вышел, в землю уйдёшь» имел Бог в виду, а из дерьма в дерьмо.
Но даже если сам Бог определил нам такую смерть и участь, желать её себе мало кто станет. На самый крайний случай остаются вышеупомянутые сиделки. Хотя сын старика Полухина и на сиделок каких-нибудь нанятых надеяться оснований не имеет. Не на что ему будет их нанять. И на собственного сына у него надежда слабая. Он и сейчас любовью к отцу не грешит сверх меры, а если тот будет ухода и сил требовать, и повышенного внимания — кто знает, как он себя поведёт и проявит. Он тоже не денежный человек по натуре, и деньги к нему вряд ли пойдут в руки. Это если опять же о платных сиделках говорить. Так что дом престарелых остаётся в запасе у сына старика Полухина в случае продолжительной жизни. И больше ничего ему не светит в конце тоннеля. И хватит ли у него упрямства, времени и способностей изменить эту незавидную перспективу, вопрос сомнительный и открытый. Несмотря на то, что упрямства у него хоть отбавляй, и на всю его железную волю несмотря. Потому что железная воля у него, конечно, есть, но в том, почти Лесковском, отрицательном, смысле.
Сын старика Полухина всегда был упрям. Ребёнком — уже был. Все знакомые считали — в отца. И если он говорил какую-нибудь глупость, произносил её неосмотрительно вслух, то никогда от неё не отказывался. И все видели, что он отстаивает глупость, и он это видел, но если глупость была им обнародована, он готов был за неё умереть на месте. Всегда чувствовал, что страдает за глупость и отстаивает глупость, и накажут его за глупость — но чтобы признать это и от своих слов отказаться, такого с ним не случалось. В углу мог простоять хоть весь день напролёт. Существовало в его счастливом детстве такое наказание. Ставили ребёнка в угол, лицом, и он стоял до тех пор, пока не повинится и не попросит у взрослых прощения или пока они сами его не простят. Так вот, он ни разу прощения не попросил. И всегда взрослые, сдавшись, сами его из угла выпускали. Да ещё чувствовали себя перед ним в чём-то виноватыми.
И всегда это было глупое упрямство, упрямство себе во вред. Старик Полухин любил вспоминать один случай из их с женой относительной молодости. И рассказывать его за праздничным столом своим гостям во всех подробностях. Хотя постоянные гости его давно знали. Сейчас старик Полухин тоже иногда этот случай вспоминал, только теперь уже самостоятельно и никому его не рассказывая.
Летом пятьдесят шестого они отдыхали дикарями в Сочи. Утром и вечером питались кое-как, на скорую руку, какими-нибудь бутербродами, а обедать ходили в ресторан. Один раз в день. После пляжа. И заказывали два первых, два вторых блюда и три третьих. Часть первого и второго мать сыну отдавала, следя за своей фигурой, а компот ему свой отдельный покупали. И он его с удовольствием выпивал, потому что с самого раннего детства любил компот. Какой угодно, из любых фруктов сваренный. А тут ему попало что-то под хвост. Поел он и сидит. Отец ему говорит:
— Пей компот и пойдём. Другие отдыхающие тоже обедать хотят, а мы стол занимаем.
А сын ему отвечает:
— Не хочу.
Отец ему:
— Пей.
А он смотрит на черешню, в стакане плавающую, и повторяет:
— Не хочу.
Тогда отец говорит:
— В последний раз спрашиваю. Будешь пить компот?
— Не буду.
— Тогда я выпью.
Он взял стакан и выпил его залпом. И не успел ещё сделать последний глоток, как сын начал плакать и орать:
— Отдай мой компот, зачем ты выпил мой компот!
И сколько его мать ни успокаивала и ни напоминала, что ты же отказался пить компот, ничего он не желал слышать, говоря сквозь плач:
— Но это же мой компот. Зачем он его выпил?
Старший Полухин заказать сыну другой компот наотрез отказался. Хотя окружающие посетители говорили ему:
— Да что вам, жалко для собственного ребёнка компота?
А Полухину было не жалко. Но он не мог смириться — чего ради? Снова заказывать, снова ждать, в жаре и под взглядами очереди, жаждущей обеда? Только чтобы сыночек на своём настоял? Мал ещё на своём настаивать. Да если бы что-то умное и полезное! А то каприз, глупость, издевательство.
Но возможно, это был характер, а не каприз. И кто вообще может точно сформулировать — что есть каприз, а что капризом не считается. Сейчас, в воспоминании, старику Полухину подумалось так, и он позволил себе усомниться в своём прошлом. А тогда ему всё было понятно и ни в чём он не сомневался. И ни о чём лишнем не задумывался. Жена говорила ему, что нечего возмущаться, поскольку ребёнок в тебя и только в тебя, что ты бы лучше поразмышлял над этим фактом. А он не хотел, не желал размышлять. Пусть, думал, какой есть, такой и будет. И я пусть буду таким, как есть, а если кому это не нравится, то и ладно.
Ведь то, что сын на него похож откуда ни взгляни, старику Полухину льстило. И тут не имело большого значения, хорошие он унаследовал черты или плохие. Главное, что унаследовал. И черты эти не чьи-то, а его. Потому что, так сказать, общаясь с бывшими людьми и видя все их внутренности непосредственно невооружённым глазом, нет-нет, да и возникало сомнение — ну что можно унаследовать от этого ливера, от этих субпродуктов, несмотря на науку генетику? Оказывается, можно. И даже такую тонкую внутреннюю черту, как упрямство. А уж о характерных склонностях — допустим, к каким-либо определённым болезням — и говорить нечего. Это добро передавалось через вышеупомянутые субпродукты очень просто и хорошо.
Почему мысль о том, что ему наследуют, грела душу старику Полухину, в общем, по-человечески ясно. Наверное, каждому необходимо ощущение того, что он не один, что вокруг него что-то есть. И есть кто-то. В смысле, кто-то близкий, близкий до похожести. Полухин расположением людей не пользовался. Наоборот, они держались от него на некотором почтительном расстоянии и приближаться не торопились. Или не отваживались. Они его, пожалуй, сторонились, называя мертвецким доктором.
Раз в жизни Полухину захотелось изменить жене. Потому что все мужья с удовольствием жёнам изменяли и жёны изменяли мужьям, а он нет. Не имея к этому физиологической склонности. И он решил этим своим неимением пренебречь и на себе испытать, что такое супружеская неверность или, громко говоря, прелюбодеяние. Ради расширения кругозора и приобщения к общечеловеческим жизненным ценностям. А также и к опыту предыдущих поколений. И случай ему сам собой представился удобный, как по индивидуальному заказу, и женщина соответствующая — приятная и аппетитная — подвернулась.
И эта, предназначенная для измены женщина, узнав, кем работает Полухин, сказала ему «Господи, как же с тобой жена спит? Неужели не брезгует? После трупов». Он ответил, что с женой спит без перчаток и без одежды, а с трупами возится, наоборот, в перчатках, в халате и в фартуке, и руки после работы тщательно моет с мылом, и перед любовью — тоже моет руки, так же как и перед едой. Потом он разозлился на себя за то, что стал ей что-то объяснять, чуть ли не оправдываться, обозвал женщину дурой, и изменять жене ему расхотелось навсегда. И он, надо сказать, так ни разу ей и не изменил. Любил или не любил её — сейчас неважно и сказать трудно. Сейчас подлинность и силу того чувства невозможно уже восстановить. Да и не волнует это никого. Любовь если волнует, то в настоящем. В настоящем всегда важно — есть она или её нет. А в прошлом, да ещё в далёком прошлом — любовь волновать не может. А если может, то волнения эти всё равно пустые. Так что любили муж и жена Полухины друг друга или всего-навсего жили вместе, одной семьёй, сегодня безынтересно, и никто этих нюансов давно не помнит. В том числе не помнят их сами Полухины. А вот то, что не изменяли они друг другу — помнят. Без гордости и без сожаления, и вообще никак этот факт своей совместной жизни не оценивая, но — помнят. Что ни он ей не изменял, ни она ему. Хотя возможности у неё такие были.
У него с возможностями дело обстояло хуже. Просто потому, что круг его общения не отличался своей широтой. Среди живых людей. С неживыми он был связан более широко и тесно, по роду своей профессиональной деятельности. Но изменять жене можно было только с живыми, а с его пациентами — нельзя. При отсутствии известных отклонений в психике и сексуальной ориентации. Старик Полухин никаких подобных отклонений не имел. И его неординарная профессия не смогла повлиять на его устойчивую психику. И на ориентацию не смогла. Потому как на ориентацию вообще мало что способно повлиять. Она есть такая, а не другая, а другой нет и всё. К профессии же своей с течением лет Полухин стал относиться с некоторым юмором. Он говорил: «У меня на том свете столько знакомых, что я давно там уже свой человек. А тут — чужой».
Шутка эта, конечно, вкус имела горьковатый, и претензия в ней слышалась некая, и неудовлетворённость миром чуть ли не всем. Но если подойти к этой шутке трезво, без эмоциональной окраски, то все на этом свете чужие, все расстаются с жизнью независимо от того, была ли у них с нею настоящая встреча. А те, кто считает себя здесь своим в доску, достойны массового сочувствия и сожаления. Умирать им всё равно приходится. И смерть для них из драмы превращается в трагедию. В сравнении с ними другие люди, относящиеся к себе заслуженно — счастливчики. А старик Полухин — более чем счастливчик. Для него смерть и драмой не была. Она не была для него вообще ничем. То есть была — ничем. И стала — ничем.
И вот, значит, исполнилось время. Не пришло, не наступило, не настало, нет. Оно исполнилось. Как ни старайся, как ни напрягай мозги, а точнее, чем в Евангелии всё равно не скажешь. И жена спросила, имея в виду предстоящий ужин — «чего ты хочешь?». И старик Полухин сначала ничего не ответил, а потом ответил «я уже ничего не хочу». И после этих слов всё общее, что есть у старости и у детства, исчезло. Остались одни различия. То есть осталось одно большое различие, включающее в себя все остальные. В детстве, в начале жизни, человек характеризуется тем, что состоит из одних желаний. Он постоянно чего-то хочет, он хочет всё и всего. «Хочу» — его суть. В старости, перед концом, его сутью становится «не хочу».
Да, слова старика Полухина «я уже ничего не хочу» не были преувеличением. Он действительно не хотел ничего. А если и хотел, то чтобы скорее наступило это самое «ничего». Не для всех. Только для него, персонально. Это было его главное и единственное желание — желание «ничего». И было оно довольно сильное. Что оказалось неожиданным. Желаний-то, как уже было неоднократно отмечено, у старика давно не осталось. И чувств реальных не осталось. А тут вдруг такое дело.
Жена выслушала его ответ, сказала «ладно, что дам, то и будешь есть» и ушла в кухню. Готовить еду. И старик Полухин понял, что жена на его ответ не обратила должного внимания и всерьёз его не приняла. И понял, что это хорошо. А не плохо. Не рассказывать же ей в самом деле, что такое не хотеть ничего и что такое хотеть наступления «ничего». Нет, он ничего не собирался рассказывать. А если б и собирался — всё равно бы не смог. Из-за слабости.
Но наверно, жену что-то всё же насторожило. Потому что она раза три приходила из кухни и заглядывала в комнату к старику. И один раз подошла и пощупала пульс.
— У тебя всё в порядке? — спросила она.
— Всё, — ответил он.
— Ничего не болит?
— Нет.
Жена, оглядываясь, снова ушла, поскольку на плитке у неё грелся суп. А старик Полухин стал прислушиваться к своему новому желанию. Иметь новое желание — это оказалось приятно. Потому что давно у старика Полухина не было ничего нового. Совсем ничего. Он жил только тем, что вспоминалось, то есть жил старым, ушедшим и всеми забытым, он не жил, а переживал какие-то куски своей жизни заново. Только не наяву, а в памяти. Что бессмысленно.
А новое желание всё больше беспокоило старика, будоражило что-то внутри. Лишало покоя. В покое старик Полухин не очень-то и нуждался, слишком много покоя было у него в последнее время. И потому, наверное, много, что время это было последним. Во всяком случае, последним для него. Так что новое желание могло пойти только на пользу. То есть какая польза? Никакой конкретной и ощутимой пользы от желания быть не может. Ни от нового, ни от старого. В его возрасте вообще ни от чего не может быть пользы. И вреда тоже ни от чего быть не может. Но лежать на своём диване, в своей комнате, и ничего не вспоминать, находясь здесь и сейчас, в настоящем, реально текущем времени, было вроде и неплохо. И даже забавно. И желание в себе ощущать — тоже забавно. Особенно если не думать, что это за желание. Старик Полухин сначала не мог не думать, а потом смог. Как-то совладал с собой. И ему совсем стало хорошо. Он лежал и лелеял своё желание. И, можно сказать, что он им наслаждался. Наслаждался до тех пор, пока не произошла новая неожиданность, неясная в первую очередь самому старику Полухину. У него появилось ещё одно желание. Секунду назад и намёка на него не было. И вдруг оно из ничего появилось. И ему показалось, что желания начали возвращаться. И не какие-то особенные, предсмертные, желания. А желания самые обыкновенные, самые простые и человеческие.
Он позвал жену. Позвал, как не звал её давно. Громко и внятно. Она больше года не слышала от него такой внятной членораздельной речи. Конечно, она сразу прибежала, думая, что у старика что-нибудь случилось не то. Она уже приготовила ужин и поставила его на табуретку, чтобы взять её и отнести в комнату. И там накормить старика Полухина. А он её позвал.
— Что? — спросила жена.
— Я сыру хочу, — сказал старик Полухин.
— Чего? — жена подумала, что ослышалась или неверно его поняла.
— Сыру, — повторил старик.
— А ужин? — спросила жена. — Может, съешь, то, что я приготовила?
— Нет, — сказал старик Полухин. — Дай мне сыру.
Жене это не понравилось. Не потому, что желание сыра показалось ей очередным глупым упрямством. К упрямству она за жизнь привыкла и могла его спокойно игнорировать. Но сейчас чувствовалось, что старик не упрямится, чувствовалось, что он действительно хочет сыру.
— Как ты себя чувствуешь? — спросила жена.
— Нормально, — сказал старик Полухин.
Жена сказала, чтоб он полежал десять минут спокойно, она сбегает в магазин напротив и купит ему сыр. Старик кивнул в знак согласия и приготовился лежать спокойно. И ждать возвращения жены с сыром.
А жена шла быстрой походкой в магазин и думала, что в конце жизни у людей возникают странные, загадочные желания. Надо же — «хочу сыру». Ну что это за желание такое? Неужели за всю жизнь он не наелся сыру? И вообще не наелся? Наверное, люди всё-таки не способны осознать, что наступил момент, и речь идёт не просто о желаниях, а о последних желаниях. Наверное, это выше их понимания. Наверное, понять, что жизнь заканчивается, им просто не по силам и не по уму.
А если бы было по силам? Если бы они всё понимали? Что бы это изменило? И чего бы они захотели? Вполне возможно, они захотели бы того же самого: сыру.
Такие примерно мысли думала на ходу жена старика Полухина. А старик Полухин вспоминал вкус сыра. Не того сыра, который он ел год или десять лет назад. Нет, он вспоминал вкус другого сыра.
Он был грудным ребёнком. Или нет, грудным он как раз не был. В конце двадцать первого года на Украине, у кормящей матери было от чего пропасть молоку. И оно у неё благополучно пропало. Хотя родители старика Полухина считались небедными людьми. Они, на фоне остальных, считались даже зажиточными. Но и они в ту зиму еду добывали с трудом. И сейчас увидел старик Полухин свою дебелую дуру-няньку. Она отрезала от сырной головки небольшой треугольный кусок, такой же кусок отрезала от буханки хлеба, положила и то, и другое в рот, пожевала с минуту, потом выплюнула кашицу на белую тряпку, завернула её узелком и вложила ему в рот. И он перестал плакать, стал сосать этот узелок, как соску, и из узелка проник к нему внутрь вкус бутерброда с сыром, а за ним медленная, но ощутимая сытость.
И тут появилась мать. И спросила, что это ребёнок сосёт, а нянька сказала «жёванный сыр с хлебом в тряпице». В точности так она сказала: «В тряпице».
Рот матери открылся и из него вылетел какой-то звук, наверное, это был крик. Она выхватила ребёнка у няньки, выдернула у него изо рта сырную соску…
На этом видение оборвалось. Что было дальше, старик Полухин не помнил.
И что было раньше, до этого, он тоже не помнил, не видел, не мог вспомнить.
Он лежал смирно, руки по швам — и жене, вернувшейся из магазина с сыром, показалось, что он лежит без сознания. А он был в сознании. Он пытался вспомнить.
Что вспомнить?
Он не знал.
Знал только, что ему нужно что-то вспомнить. И вспоминал. Вспоминал всё не то. Совсем не то. Совершенно не то.
— Я тебе сыру принесла, — сказала жена.
И услышав слово «принесла», он наконец вспомнил. То, что хотел. Почему со словом «принесла», а не с каким-нибудь другим? Этого уже нельзя узнать. Но именно с этим обычным глаголом, произнесённым женой, с глаголом «принесла», он вспомнил момент своего рождения. А вспомнив, умер. Потому что больше вспоминать ему было нечего.
В песках у Яши
Она терла лицо руками, ведя ладонями со лба по глазам к подбородку, и на щеках оставалась краска, пальцами снятая с ресниц. Краска была черная и жирная. И лицо становилось черным в тех местах, где двигались пальцы. А между ними оно оставалось бледным. Приобретая трагический и в то же время комический, клоунский вид. Ну что это в самом деле за боевая раскраска у молодой женщины, пусть молодости и не первой? Хотя все это бабушкины сказки о второй и последней молодостях. Молодость, как и детство, одна, в единственном, значит, числе. То есть — почему, как детство? Как всё. Природа, в общем, скучна и однообразна. В ней всё по одному образу, по единому образцу. Весна, лето, осень, зима. Можно сказать, что у дерева или у человека весен много и лет много, и зим. Да, маленьких и локальных — много, но все они объединяются жизнью в одну большую весну, одно общее лето, одну последнюю осень и одну холодную зиму. В конце которой — конец. Тоже один-единственный. Конец, так сказать, концов.
Естественно, она не плакала, глаза под пальцами не были влажными, и слезы из них не лились. Влажными были ее пальцы и кожа лица тоже была влажной. От жары. Жара стояла тяжелая. Причем она именно стояла. Неподвижно. Или — недвижимо. И все стояли в этой жаре и тоже старались не двигаться. Каждое движение выдавливало из пор густой непрозрачный пот. И он катился под собственной тяжестью сверху по телу вниз и стекал в босоножки. Это было неприятно. И противно. Когда в босоножках скользко — это противно. Но и уйти, когда все стоят, а она мажет себе черной краской лицо, не понимая, что делает — тоже вроде нельзя. Или можно. Но неудобно. Неловко. А она никуда, похоже, не собиралась. Она стояла вместе со всеми и не думала никуда уходить. Что-то — возможно, простые приличия — держало ее здесь, приковывало к месту. И место это было не самым лучшим местом на нашей планете. Далеко не самым лучшим. Остальные тоже стояли в неподвижности. Внутри ее. А она, неподвижность, окружала и охватывала их всех снаружи.
Мне казалось, что всё уже давно закончилось. Но, видимо, я ошибался или, скорее, чего-то не знал. А они знали. И стояли. Наверно, ритуал того неукоснительно требовал. Ритуалы всегда требуют чего-то от людей, требуют, требуют и требуют…
И я не выдержал. Жары, напряжения, чужого случайного несчастья. Я попятился, сделав по сухой, треснувшей в трех местах земле, два незаметных коротких шага. Потом я повторил свой маневр. Раз и еще раз. И остался за спинами мужчин и женщин. Спины продолжали свою неподвижность, они медленно каменели под солнцем. Каменели и выгорали. Впрочем, выгорали только одежды. Да и они не выгорали, потому что давно выгорели до полной и окончательной белизны и выгореть больше не могли. Дальше выгорать было некуда, дальше можно было только истлеть.
Я постоял какие-то мгновения — достаточно, надо сказать, протяженные, хотя и пустые — постоял так, на всякий случай, если кто-нибудь обернется. Но никто не обернулся. Никто не пошевелился. Все погрузились в смерть, прикоснулись к вечности и от этого прикосновения остолбенели. А я пошел, удаляясь, увеличивая скорость движения, учащая шаг и дыхание. Ретируясь. Я шел не оглядываясь, пыля ногами, дыша мною же поднятой пылью и зноем. Мне даже казалось, что я бежал. Убегал от гиблого места, от чужой вдовы и моей одновременно жены, и от собравшихся в том месте людей, и конечно, от солнечного света, несущего в себе зной, зной и зной. Хотя, если подумать, убегать мне было не от чего и неоткуда. А также незачем и некуда. Разве что в гостиницу. Разве что от солнца. Но от солнца не убежишь, а гостиница — это не убежище, это в лучшем случае — прибежище. И все же. В ней не так жарко, как на открытой незащищенной местности. И в ней бывает вода. Даже в душе.
Под душем я мылся стоя, нет, сидя на коленях. Чтобы не разбрызгивать воду по полу ванной комнаты. Зрелище это было жалкое. Голый намыленный мужчина в ванне на коленях, с гибким шлангом в одной руке и куском рыжего мыла в другой. Настоящее убожество. С эстетической, конечно, точки зрения. А с практической, выхода другого я не видел. Шторы у ванны не было, тряпки, чтобы вытереть брызги — тоже найти не удалось. Идти и просить ее у служащих гостиницы мне не хотелось. Потому что не хотелось объяснять — зачем мне нужна эта тряпка и что я собираюсь с ней делать. Мне проще было стать на колени, прижать локти к ребрам и поливать себя из душа аккуратно и осторожно. Так как напор здесь был в общем условный, мне удавалось смыть с себя пыль и пот, не налив на цементный пол ванной ни капли. Не знаю, почему меня волновало — налью я на пол или не налью. Наверно, я сразу понял, что убирать в номерах никто не будет. Эти женщины, которые выдали нам по приезде ключ и которые заглядывали в номер в любое время суток — имея собственные, служебные ключи от всех дверей, — явно ничего убирать не собирались. Скорее всего они считали свое служебное положение ниже своего достоинства, работа уборщиц и горничных была для них унизительна, а другой работы в радиусе ста километров не было. Поэтому они соглашались числиться на той работе, какая существовала, соглашались получать небольшую зарплату, а убирать и мыть за приезжими мужчинами и женщинами, тем более в ванной — гордо отказывались.
Несмотря на это, внутри помещения было вполне чисто. Очевидно, из-за герметичных оконных рам и плотно, без зазоров и щелей, прикрывающихся дверей. Эти двери и рамы имели специальные уплотнения, сквозь которые песок проникнуть внутрь здания не мог. Правда, из-за этого же — из-за наглухо закрытых окон — в номерах ощущался сильный недостаток кислорода и свежего воздуха. Можно было, конечно, открыть дверь в коридор. В его торцевых окнах стояли кондиционеры. Но если кто-нибудь из служителей видел это нарушение порядка — бывали неприятности. Служители вбегали и произносили одни и те же, заученные раз и навсегда слова: «Закирой дивери. Виселю». Они произносили эти свои слова угроз с негодованием. Они удивлялись, как эти временные, приехавшие черт-те откуда постояльцы не понимают простейших вещей, не понимают, что кондиционеры включаются и работают не для них, а для того, чтобы в вестибюле была вечная прохлада, и персонал имел физическую возможность трудиться и выполнять свои служебные персональные обязанности. Какие обязанности — я так и не понял. Мне показалось, что никаких обязанностей у них не было. Или они их не знали. У них была одна, видимая со стороны обязанность — пить чай, предаваясь тихой беседе. Раньше я думал, что здесь, в песках Азии, бесконечно пьют чай только мужчины. Теперь я видел, что женщины занимаются тем же самым, только в других, более закрытых для посторонних взглядов местах.
Я прошел мимо портье и горничной с пиалами в руках, прошел, по возможности замедлив шаги, в коридор, дошел во встречных струях кондиционированной прохлады до своей двери и остановился. И постоял, пытаясь надышаться, и почувствовал, как высыхает на мне пот и как мокрая горячая рубашка остывает и отделяется от спины. Затем я открыл замок, толкнул дверь, задержал ее в этом положении, задержал, понимая, что сейчас те, пьющие в вестибюле чай, замерли и прислушиваются — хлопнет дверь или не хлопнет. Я не стал испытывать их короткое терпение и хлопнул дверью. Хлопнул громко, чтоб они наверняка услышали и успокоились.
И остался в замкнутом духотой пространстве нашего двухспального номера. Здесь я впервые узнал, что номера бывают двухместные — это с двумя отдельно стоящими кроватями, а бывают двухспальные — с теми же двумя кроватями, но сдвинутыми впритык. Эти последние номера стоили существенно дороже. Почему — нам объяснили так: в двухместные номера селят людей одного пола, в двухспальные — разнополых. Мы выбрали двухместный, более дешевый номер, но нам сказали — нельзя. Раз есть «одна мужчина и один женщина» — именно так нам сказали, — надо брать номер со сдвинутыми кроватями, а не с раздвинутыми, и платить за него по утвержденному прейскуранту. Мы взяли. И заплатили. Раз надо. Хотя скоро кровати пришлось раздвинуть. Из-за жары. В ней даже дыхание, даже тепло тела, лежащего рядом человека, ощущалось кожей — всей ее поверхностью — и не давало уснуть. А тем, ради чего собственно и сдвигают кровати, мы не занимались. Пожалуй, это была единственная гостиница в нашей жизни, где мы этим не занимались. Во-первых, все из-за той же высокой температуры. А во-вторых, из-за торжественности и трагизма ситуации. Или, возможно, из-за некоторой ее неестественности. Вообще, я давно заметил — все трагические и торжественные ситуации неестественны. В разной мере, но все. Наверно, мы в горе и в торжестве (так же, к слову, как и в опасности) чувствуем себя неудобно, не в своей тарелке себя чувствуем.
Стащить прилипшую к телу одежду стоило мне большого труда. Она не стаскивалась. И я боялся, что порву рубашку. Боялся, но все равно тащил ее за воротник через голову. Из штанов вместе с трусами удалось выбраться без усилий. Но наклониться и поднять их с пола — нет, на это меня уже не хватило. Я переступил через них, я хотел только одного — обдать себя водой. Пусть не холодной, пусть теплой. Лишь бы водой. Лишь бы она была мокрой и лилась.
Закинув ногу, перенес ее через борт ванны. Поставил ступню на сухую шершавую ржавую эмаль. Слава Богу, она была прохладной. Коротко насладившись этой локальной, почти точечной прохладой, подтянул и перенес в ванну вторую ногу. Стал на колени. Сел. Кожа в суставах издала неприличный чавкающий звук и слиплась. Взял в руки лейку душа. Открыл кран. Из душа не вылилось ничего. Обычного шипения, и то из него не вырвалось. Полная и безнадежная тишина, тишина пустыни. Я даже не стал ругаться. Наверно, весь великий и могучий русский мат не мог выразить моих сильных чувств, моего бессилия, моей злобы. Хорошо еще, что она не имела адреса, никуда не была направлена. То, что я чувствовал, было, конечно, злобой. Но злобой в чистом виде, злобой как таковой. И только.
А такая, ненаправленная злоба имеет одно направление — она направлена против тебя самого. Наверно, поэтому я сидел на коленях в ванне и готов был заплакать. А может быть, я готов был разрыдаться. Того, ради чего я бежал с церемонии, ради чего повел себя неприлично и нехорошо по отношению к жене, не оказалось. Я говорю о воде. А это значит, что я мог достоять всю процедуру погребения до конца. Ничего бы эти лишние пятнадцать минут не изменили. Они в любом случае прошли бы, но прошли бы для меня там, а не здесь.
Я поднялся с колен, вылез из ванны, в комнате натянул на себя пропотевшую и пропыленную свою одежду и вышел. Я дошел по искусственной, механической прохладе до вестибюля и сказал пьющим чай:
— Вода.
— Э, вода, — сказали они. — Вода нет.
Я сказал:
— А будет?
Они сказали:
— Будет — не будет — ми не знаем.
— А кто знает? — заорал я и от всей души добавил к крику «еб вашу мать».
Они сказали:
— Виселю, — и забыли обо мне, вернувшись к своему чаю и к своей безначальной и бесконечной беседе.
О чем они беседовали дни напролет? Что могло происходить у них такого, требующего непрерывного, ежедневного обсуждения? За всю неделю я не увидел ничего, никаких событий. Песок. Жара. Пустота. Я сразу понял, что это место, где ничего не происходит. Ничего, кроме самого основного и природе необходимого — рождений, жизней и смертей. И я легко себе представлял, что это были за жизни. Не жизни, а передвижения, многолетние монотонные переходы от рождений к смертям. Именно поэтому, думал я, смерть здесь — событие всеобщее, имеющее общественную значимость, событие, затрагивающее и интересующее всех живых в округе. После каждого такого события они еще долго передают из уст в уста его подробности, его историю, его причины и последствия. Можно сказать, они еще долго живут этим событием, живут смертью. Правда, не своей смертью, а чужой.
Они бы жили своей — если бы это было возможно. Но это невозможно. Это исключено.
Я постоял в коридоре, дыша. Возвращаться к скорбящим было глупо и не имело смысла. Сидеть или лежать в духоте комнаты было невыносимо. Я толкнул дверь и оставил ее открытой. Пусть только придут с претензиями — пошлю их подальше, этих ленивых восточных баб. Такие бабы, но каменные, стоят во дворе нашего исторического музея. Говорят, это скифские бабы. Их каменная лень и неподвижность исходят из глубины веков, а из чего исходит лень и злоба этих, живых? Может быть, она исходит из солнечных лучей, из их избытка и переизбытка. Лучи выжигают из людей воду, иссушают их тела, и в телах высыхают по законам физики души.
Наконец-то я понял, кого они мне напоминают, с кем — или, вернее, с чем ассоциируются. Они ассоциируются у меня с воблой. Пьяница и герой войны Кулинич из моего детства говорил «вобла-ёбла». С воблой-ёблой он ходил к одноногой шалаве Гальке пить пиво. Она продавала его — жидкое и затхлое — в дощатом сыром ларьке. Завсегдатаи заведения поговаривали между собой, что Галька разбавляет товар втрое, а чтобы он пенился, сыплет в бочку стиральный порошок. Поговаривали, но все равно приходили к ней при первой возможности, да и без возможности, на авось, тоже приходили — уж одну-то кружку постоянным клиентам Галька в долг всегда наливала безоговорочно.
Что-то никто не идет ругаться со мной. За то, что я ворую из коридора дорогой холодный воздух. И с кладбища тоже никто не возвращается. Хотя пора бы. Сколько можно там торчать? И почему мусульманский обряд такой длинный? Почему он не учитывает климатических условий? Потому что покойникам все равно, какая температура на улице? Или потому что мусульмане, как и все прочие люди, уважают своих мертвецов больше, чем своих живых?
Конечно, мне трудно и не нужно судить, но какой этот Яша мусульманин! Смех один. Нет, я очень мало чего о нем знаю. Ничего не знаю, если по большому счету. Дина никогда особенно не вспоминала его, а тем более в моем присутствии и в последние годы нашей совместной с ней жизни. Да и в ее начале, двенадцать лет назад, Яша в наших разговорах всплывал только в связи с тем, что из-за него — прохвоста и жулика — мы не могли по-настоящему пожениться и жить, как все нормальные люди общества, в браке. Для нас это с бытовой точки зрения многое значило, поскольку портило нам жизнь. Мы же в гостиницах не останавливались, мы в них проживали. И не в столичных каких-нибудь отелях, а в ночлежках районных центров, поселков, а то и сел. А там еще лет шесть назад без штампов в паспортах селить в один номер не хотели ни за что. То есть хотели только за что-то. И нам приходилось или давать им это что-то, или жить порознь. А пожениться мы по закону не могли, потому что Дина была замужем за Яшей, который в один прекрасный день исчез.
Он исчез, не взяв с собой ничего, кроме красного советского паспорта, и не оставив по себе никаких следов. Совсем никаких. По-видимому, свое исчезновение, свое бегство от брачных уз, он тщательно готовил, продумывая все детали и все мелочи. Дина подозревала, что он просто от нее сбежал к какой-нибудь другой, более новой женщине. Менять жизнь кардинально и со всех сторон было в Яшином шатком характере. Незадолго до исчезновения, Яша, имея фамилию Фельдман, крестился. Потом, решив, что сородичи сочтут его ренегатом и не простят, сделал себе обрезание. Оба обряда Яша совершил над собой тайно, скрываясь даже от самых близких людей, так как на излете советской власти эти вещи рукой Кремля не поощрялись и, мягко говоря, не приветствовались. Хотя, конечно, последний обряд всецело скрыть невозможно. Разве только до поры до времени. А теперь вот его хоронят по мусульманскому обычаю в мусульманской земле, очень далеко от дома. И это уже навсегда. Этого уже не изменишь.
И я понимаю и осознаю величие уходящего в прошлое момента, хоть и не понимаю, почему здесь нахожусь. Что я делаю в этой песчаной печальной стране. Почему Дина поехала хоронить забытого ею давно человека и почему потащила с собой меня. Да, я сам предложил сопровождать ее в пути — это правда, предложил, так как не мог, будучи более или менее воспитанным человеком, не предложить. А она, думая в это время о чем-то другом, своем, личном, сказала «да-да, конечно. Конечно, мы поедем вместе». Головорез с дикими глазами тоже не возразил ни мне, ни Дине. Он сказал только сам себе: «Ищё адын билиет», — и всё. Он вообще говорил так, как будто разговаривал сам с собой, а собеседник всего лишь пассивно при сем присутствовал и роли никакой не играл.
Появился он у нас часов в двенадцать ночи. Мы еще не спали. Мы молча пили чай с медом, устав, как собаки, после очередного концерта. То есть не концерта, конечно. Какой там концерт? Это было выступление из самых неприятных и морально утомительных — выступление на юбилее коммерческого банка «Славянский кредит». Три года существования у них всерьез называется юбилеем, и они нас пригласили для собственного увеселения во время юбилейного банкета. Видимо, высшее руководство банка любило еврейские народные песни. А мы их пели. То есть мы и цыганские песни пели, и украинские, и какие угодно — внешность нам всё это позволяла с лихвой. Нам с Диной без разницы, какие песни петь, где их петь, для кого петь и зачем петь. Нам лишь бы петь, потому что это наш заработок. Наш, так сказать, несладкий хлеб насущный.
И вот во время ночного чаепития он пришел и стал длинно звонить в дверь. Я не хотел открывать незнакомому человеку с такой внешностью — можете себе представить, как этот ордынец выглядел в дверном глазке, — но он твердил, выкрикивая, два изуродованных акцентом слова — «Диина» и «Аиша». И Дина зачем-то отстранила меня рукой, отперла дверь и впустила его в квартиру, невзирая на ночь. Азиат вошел, на пороге разулся, огляделся, с опаской прошелся по комнате и по кухне, как будто искал засаду, и сказал сам себе: «Аиша умирёт. Нада хиринить ехать.»
Дина сразу, не задумываясь сообразила, что Аиша — это Яша, и сразу сказала:
— Поехали, — даже не спросив, куда надо ехать, далеко ли.
— Билиет в кириман, — сказал азиат.
В этом месте я, как последний идиот, вмешался в разговор и проявил всё свое идиотское джентльменство — сказал, что поеду с ними. Потом я спросил у пришельца:
— Яша умер или еще нет? — я решил уточнить — он-то говорил о смерти Яши в будущем времени, хотя и уверенно.
Гость думал долго, после пожал плечами, отвернулся и сказал:
— Умирёт.
Ни как он нас нашел, ни что случилось с Яшей, ни зачем Дине ехать на похороны человека, о котором двенадцать лет она ничего не знала и не слышала, ордынец объяснить не смог. У него не хватало на это русского словарного запаса. И на все наши вопросы он молча склонял голову к левому плечу. Или улыбался и прикладывал руку к груди.
А билет мне он купил легко и как-то очень просто. До странного просто. Он позвонил кому-то с нашего домашнего телефона и сказал два слова: «Билиет нада.» И положил трубку на рычаг. В аэропорту к нему подошел такой же, как и он сам, азиат бандитского вида. В руке этот азиат держал билет. На мое имя. Мне этот деревенский детектив уже тогда сильно не понравился и вызвал справедливые подозрения. Откуда они знали, как меня зовут, откуда знали фамилию? Черт их, азиатов, поймет и разберет. Восток — дело темное. Особенно если смотреть на него с запада. Или — с северо-запада. Так точнее.
Я лег на постель и стал ждать возвращения Дины. Ждать лежа всегда удобнее. А здесь все время приходилось чего-то ждать. И мы ждали, не зная даже, чего ждем, ждали в неведении. С самого начала.
Ордынец оставил нас у порога гостиницы. Дал денег, сказал «живите зидесь» и ушел по пустой иссохшей дороге, треснувшей вдоль. Мы вошли в гостиницу, и я спросил у Дины:
— Сколько мы тут пробудем?
— Сутки, — сказала Дина. — Или двое. Я не знаю.
— Хорошо, — сказал я, — возьмем номер на два дня. Все равно деньги не наши и их хватит.
Мы подошли к стойке. Я протянул паспорта сонной дежурной. Она скосила на них глаза и начала что-то прилежно, по-ученически, писать на серой шершавой бумаге. Потом из-за ширмы появились еще две сонные в морщинах женщины, и у нас произошло с ними объяснение насчет двухместных и двухспальных номеров. Потом мы заплатили названную дежурной сумму и получили ключ. Никто у нас не спросил, на сколько мы приехали. Это я сообразил уже в номере. И сразу поделился своим соображением с Диной. Но она не придала этому факту никакого серьезного значения. Она сказала, что устала, как давно уже не уставала, и что хочет лечь. Я тоже хотел лечь. Не меньше Дины. И мы легли. И быстро уснули. А проснулись от духоты и жары. Солнце поднялось и накалило стены, остывшие за ночь, и спать стало невозможно. В такую жару человек просыпается от жара своего собственного дыхания.
Сначала мы просто лежали, истекая потом. Лежали, пока я не додумался открыть дверь в коридор. Но через пять секунд прибежала дежурная и стала кричать «виселю», свирепея от собственного крика. Дверь пришлось закрыть, потому что от ее воплей стало еще жарче, и я весь покрылся испариной. Мы разделись донага и приняли вялый несвежий душ. Одеваться не стали. Хотя прийти к нам могли в любой момент. Дина легла, даже не вытершись, в каплях воды на коже, я вытерся, и быстро об этом пожалел. А вставать еще раз и еще раз идти в душ не хотелось смертельно. Потому что вообще не хотелось шевелиться. И так мы лежали в жаре и в медленно идущем времени, лежали и ждали чего-то — чего-то, что обязательно должно произойти не сегодня завтра. Не знаю, как у Дины, а мое ожидание довольно быстро стало тоскливым, и тоску я ощущал какую-то незнакомую и неясную. Видимо, неясность объяснялась тем, что это была тоска по будущему. По самому ближайшему будущему, от которого неизвестно, чего можно и нужно ждать.
Наконец, Дина сказала:
— Ты обратил внимание, что совершенно не хочется есть?
Я обратил. В последний раз мы ели в самолете.
— Интересно, они о нас забыли? — сказал я. — Может, спросить у этих теток, как найти нашего ордынца?
Дина повернула голову на подушке, повернулась сама. Ее глаза и соски смотрели теперь прямо на меня. Она сказала:
— Ты знаешь, как его зовут?
— Не знаю, — сказал я.
— И я не знаю.
Действительно, ни я, ни Дина не поинтересовались, с кем имеем дело, с кем и за чей счет летим в самолете, живем в гостинице. Приехали в пустыню с чужим подозрительным человеком, с каким-то криминальным типом. Никому ничего не сказав дома. Никого не предупредив. И кто знает, что у этих азиатов на уме?
— Ладно, — сказала Дина. — Подождем еще. В крайнем случае, уедем.
— Ты уверена?
— Нет.
— Давай выйдем в вестибюль. Там хоть можно дышать.
Мы оделись и вышли из своего номера. Прошли по коридору и заняли в вестибюле два кресла. Те, что стояли вокруг низкого косолапого столика прямо посредине помещения. Портье посмотрела на нас нехорошо. Но, возможно, мне это показалось. В таких непонятных ситуациях поневоле становишься мнительным.
Посидев минут пять, я встал и подошел к стойке.
— Где у вас поесть?
— В бюфет.
— Это где?
— Више.
Я сказал портье спасибо и спросил, когда похороны.
Она сказала:
— Не знаю похороны.
— Яша, — сказал я.
— Не знаю Аиша, — сказала она.
Значит, получалось, что на сколько дней мы приехали, она знала, а о похоронах не знала. Я вернулся к Дине и сказал:
— Что-то здесь не так.
— Да ладно, — сказала Дина и встала.
Мы поднялись в буфет.
Никого. И мне показалось, что, кроме нас, в гостинице никто не живет. Что гостиница пуста. Что в ней попросту некому жить, потому что никто сюда, в эти пески, из внешнего мира не приезжает.
Я постучал по стойке. Появилась буфетчица, и у меня зарябило в глазах. Наверно, от ее платья.
— Воды, — сказал я.
Она дала нам воду с витрины.
— Из холодильника нельзя? — спросил я.
На это буфетчица не ответила ничего.
Пыльную зеленую бутылку я открыл черенком вилки, валявшейся на стойке. Стаканы взял с подноса. Буфетчица проследила за моими самостоятельными, самовольными, действиями. Проследила молча и без всякого интереса. Даже должностного. Наплевать ей было на вилку. И на нас — наплевать.
Воду мы пили так долго, как только можно. Чтобы растянуть иллюзию занятости хоть чем-то. Когда ты чем-то занят, меньше задаешь себе вопросов, на которые не можешь ответить. Правда, и меня, и, я уверен, Дину занимал всего один вопрос. Нам нужно было знать, когда состоится то, ради чего нас сюда привезли. И когда мы сможем вернуться из этой во всех смыслах пустыни домой. Я захотел домой, как только сел в самолет, и он начал выруливать на взлетную полосу. А уж здесь с первой минуты я как на иголках танцую. Хотя мог бы спокойно отдыхать, например, в ванне — и горя не знать. Но что можно делать, если у тебя беспокойный и неуравновешенный характер, если любая смена обстановки воздействует на нервы. А обстановка меняется всю жизнь постоянно. Правда, одно дело, когда эти изменения привычны и происходят в каких-то известных рамках, в знакомых границах, и другое дело, когда всё смутно, неожиданно и непредсказуемо. Тут я сразу начинаю чувствовать себя жертвой. Чего и кого жертвой — неважно, просто жертвой. А поведение жертвы отличается ошибочностью. То есть жертва совершает множество неисправимых ошибок, что и делает ее в конечном счете жертвой. Кстати, одну ошибку я допустил даже в определении насущных наших вопросов. Потому что Дину волновал не один вопрос, как я думал, а два. Дина хотела знать, от чего умер Яша. В сорок один год, конечно, умирают своей законной смертью. Мало ли на свете подходящих для этого дела неизлечимых болезней. Но Дина в Яшину болезнь почему-то не верила. Она перебирала в голове самые различные, в том числе довольно фантастические варианты, а вариант тяжелого заболевания с летальным исходом даже не рассматривала. К сожалению, задать свой вопрос Дина никому не могла. Некому было его задать. Разве что мне.
Допив бутылку до конца, мы встали и спустились вниз.
— Может, выйдем, прогуляемся? — это было мое предложение.
— Давай, — согласилась Дина.
Мы вышли и сразу поняли, насколько дикое предложение я выдвинул. Нас обдало горячей волной, ошпарило, сбило дыхание!
— По-моему, мы попали в кипящий суп, — сказал я.
— Вечно ты со своими метафорами лезешь, — сказала Дина.
И она сделала шаг с крыльца и пошла по дороге. Я пошел следом. Мы шли туда, куда ушел ордынец. То есть мы шли в том же направлении. Наверно, Дина надеялась его встретить. А я надеялся выжить. И не схватить солнечный или тепловой удар. Дина по какому-то наитию взяла из дому свою белую шаль. Сейчас она повязала ее вместо платка на голову — так, чтобы защитить от лучей и лицо тоже. На моей голове не было ничего. К тому же я недавно постригся. И солнце било мне прямо по черепу.
Я сказал об этом Дине и о том, что мой череп может не выдержать — тоже сказал. Она тут же выполнила поворот налево, толкнула дверь и вошла в магазинчик. Я вошел за ней. Как на привязи.
— Тюбетейку, пожалуйста, — сказала Дина продавцу с оплывшими желтым жиром глазами. — Посветлее.
Продавец положил на прилавок три тюбетейки. Дина выбрала среднюю — самую большую — и нахлобучила ее мне на макушку.
— Сувенир, — сказала она и расплатилась с продавцом.
— Куда мы идем? — спросил я на улице.
— Прямо, — ответила Дина.
— Давай вернемся.
Молчание.
Наверно, она все-таки знала, куда идет. А если не знала, то чувствовала. Потому что мы встретили нашего ордынца. Хотя больше никого не встретили. Ни одного человека. Ни единого. В это время суток нормальные люди на улицу не выходят. Будь они хоть азиаты, хоть кто. В такую жару хороший хозяин собаку во двор не выгонит.
Дина не стала затягивать беседу. Она не стала даже здороваться. Она сказала:
— Ну?
— Ище ниет, — сказал ордынец.
— Когда? — сказала Дина.
— Я скажу, — пообещал ордынец, похлопал себя по карману и достал деньги.
— На, — сказал он и хотел уже пройти мимо нас, но я схватил его за руку.
— Как тебя найти, если понадобится?
Он посмотрел на мои сжатые пальцы и легко, плавно вынул из них свою руку.
— Ни нада искать, — сказал он. — Ни панадабится.
И исчез в какой-то щели между домами.
Запоминать место его исчезновения смысла не имело.
— Слушай, — сказала Дина, — он опять дал нам четыре сотни.
— Долларов?
— Их.
— И опять не сказал, как его зовут. Может, уедем?
Дина не ответила. Она повернула обратно и пошла впереди меня. По совершенно пустому, мертвому городу. К гостинице.
— Успеем, — сказала Дина минут через десять ни к селу ни к городу. И я стал думать о том, что прожил с ней двенадцать лет, прожил хорошо, как говорится, в любви и в согласии, а знать ее как следует, не знаю. Я и раньше, случалось, замечал, что наступает некое мгновение, и с ним Дина начинает жить отдельной от меня, своей жизнью. Живя в это же самое время и общей жизнью со мной. В эти периоды я переставал понимать ее, переставал чувствовать. И сейчас явно наступил именно такой период. Что у нее на уме, чего она ждет от этих похорон, зачем они ей? Я не мог понять. Ну что и кому могло дать ее присутствие, ее участие в погребении — здесь, в этих горячих песках? Кто платит ей за ее присутствие? И ведь неплохо платит. А по нашим заработкам и меркам — так очень даже щедро. Может, Яша стал тут у них баем или беем? Или ханом? Хан Фельдман. Смешно, конечно, но не очень.
Хотя, с другой стороны, если он принял ислам, то и имя у него должно было поменяться. Стал же когда-то Кассиус Клей Мохаммедом Али. Эти ребята зовут Яшу не то Аиша, не то Айша. Наверно, это и есть его новое исламское имя. А отчества у него теперь, видимо, нет. Впрочем — и его самого нет. Или еще есть? И его нельзя хоронить. Заживо, надо надеяться, не хоронят даже здесь.
— Слушай, а может, твой Яша жив? Пока что.
Дина остановилась на пороге гостиницы и обернулась.
— Сама об этом только подумала. И тип этот сказал «умрет». Помнишь?
Я-то помнил. Я все прекрасно и подробно помнил. И мне все больше эта история не нравилась. Это же триллер какой-то на нашу голову. А я и по телевизору их терпеть не могу, не то что в собственной, единственной и уникальной жизни. Поэтому меня больше устроило, если б это оказалось розыгрышем. Ну, допустим, Яша действительно разбогател в этих песках, как в сказке, а жить тут ему явно скучно и не интересно. Ни тебе, театра, ни пивной — мерзость. Вот он и вспомнил о своей жене. Дина же ему самая настоящая законная жена. Не по законам шариата, конечно, но все-таки. А со мной она, выходит, прелюбодействует, изменяя мужу и повелителю. Целых двенадцать лет прелюбодействует еженощно. За редкими исключениями. Такими, как сейчас. Хотя исключений этих было в нашей жизни немного. Мы же и дома, и на работе всегда вместе, всегда, так сказать, под боком и под рукой. И что интересно, до сих пор друг другу не осточертели. Как нам это удалось — я не знаю, и Дина — не знает.
Кстати, если я ничего не путаю и не преувеличиваю, и если память моя мне не очень изменяет, то по их этим шариатским законам и правилам, женщине за супружескую измену полагается как минимум смерть и чуть ли не виселица. И тому безбожному подлецу, с кем она мужу в свое удовольствие изменяла — то есть, значит, мне — полагается то же самое за умышленное соучастие в преступлении против мужа. Всё это полагается, по-моему, публично, при скоплении народа на какой-нибудь центральной площади. Чтоб другим, значит, неповадно было и боязно, чтоб у них кровь стыла во всех жилах при одной только мысли об измене и прелюбодеянии.
Может, они для этого нас сюда и привезли? Чтоб своих не казнить. Мы же для них чужие, да еще неверные. То есть кандидатуры подходящие. В конце концов — а почему бы и нет? Дело богоугодное и, значит, нужное. Не нам, правда, нужное, но это ладно.
Выслушав мою версию, Дина сказала:
— У тебя богатое воображение. Верней — оно у тебя больное. Гриппом. Яша, конечно, гад, но он интеллигентный человек. С высшим, и кажется, университетским образованием.
— Образование — не помеха, — сказал я. А Дина сказала:
— Между прочим, на тебя они не рассчитывали, билет вначале был у них один, для меня. Ты — сам напросился.
И мы вошли в гостиницу, в холл, в коридор, потом в свою комнату, потом в ванную, потом в ванну. Только прохлады ради. Ни за чем другим. Вода в кране, слава Аллаху, была. Мы с удовольствием помыли друг друга, и Дина сказала:
— Как-то странно мы себя здесь ведем. По-братски.
— По-моему, мы никак себя не ведем, — сказал я.
— Это-то и странно. Тебе же тоже безразлично мое присутствие тут, в ванне?
— «Тоже» — хорошо сказано… тоже…
Но тогда хотя бы была вода. Да и Дина — была. Со мной. В одной ванне. Я ее видел, прикасался к ней, был с ней — в смысле, рядом, и она у меня была. Сейчас у меня не было ни Дины, ни воды. И я теперь уже не знаю, что мне нужно больше — чтобы пришла Дина или чтобы пошла вода. Нужно и то, и другое. И лучше, если немедленно. Не медленно, а быстро.
И конечно, когда тебе нужно одно, получаешь ты совершенно другое. Вместо воды и вместо Дины пришла сонная дежурная портье. Она открыла дверь, вошла и сказала не мне, а стенке: «Ки вам пиришли».
— Кто? — спросила не стенка, а я.
— Я.
Мимо портье в дверь протиснулся очень большой пыльный человек. Он улыбался, оседал и кивал головой. Как фарфоровый болванчик. Когда я был совсем маленьким, такой болванчик стоял на сооружении из дерева под названием «сервант» и покачивал блестящей хрупкой головенкой — от шагов, от сквозняка, от звука голосов. Мама очень его любила, любовалась им, всем его показывала. Этот, пришедший, кивал головой по собственной воле и собственному желанию. Кивал и задавал идиотские вопросы. И не ждал, пока я на них отвечу. Он говорил:
— Ну как вам у нас — хорошо? — и: — Как вы себя чувствуете — не жарко? — и даже: — Как жена, как дети?
Говорил этот болванчик без всякого акцента. Хотя то, что он говорил, можно было и не говорить. Но самое интересное произошло через две минуты. Он покивал, поулыбался, повернулся и ушел. Осторожно прикрыв за собой дверь. До свидания он мне не сказал.
А я сказал:
— Бред какой-то.
И подумал: «Может, это у меня галлюцинации от жары начались? Может, я все-таки перегрелся под белым солнцем пустыни?»
Естественно, мои вопросы остались без ответов точно так же, как и вопросы моего недавнего гостя.
Нет, конечно, измена Яше, шариат и прочие страсти по исламу — все это было чепухой. Это я начитался газет. Или телевизора насмотрелся. Что еще хуже и вреднее. Для зрения и для психики. И воображение от телевизора вполне может пострадать, в смысле стать излишне богатым. А лишнее богатство воображения, как и любое лишнее богатство, к добру не приводит — наоборот, оно приводит ко злу. Если бы они хотели нас использовать в качестве исходного материала для образцово-показательной казни, они бы, как минимум, не позволили нам жить самим без присмотра в гостинице и не тратили денег на наше содержание. Привезли бы, заперли и никаких забот. Никакой возни, и не надо опасаться, что мы смоемся. Не надо за нами следить. Хотя и так за нами никто не следил. Всю неделю мы были любезно предоставлены сами себе и почему не уехали — сказать трудно. Дина чего-то упорно ждала, не совершая никаких резких движений, и я ждал вместе с ней.
Кстати, казнь в лучших традициях средневековья — не единственная из гипотез, пришедших мне на ум. Оказалось, что я большой специалист по гипотезам — Дина сказала «гипотезёр». Почему бы им не потребовать за нас выкуп — подумал я. Жаль эта красивая гипотеза отпала еще быстрее предыдущей. Во-первых, можно было найти кого-то поближе, а во-вторых, какой и с кого за нас можно взять выкуп? Нет такого дурака, который согласился бы за наше освобождение что-нибудь заплатить. Его нет в природе, нет нигде, ни в северном полушарии, ни в южном. Не родился еще такой человек, в смысле такой идиот. Даже обидно. Ведь действительно выходит, что мы, симпатичная, в общем-то пара, два неплохих человека — никому по-настоящему не нужны. Наша жизнь и угроза ей всем до лампочки. И никто не захочет расстаться со своими паршивыми деньгами из-за и ради нас. Потому что вообще никто никому не нужен. А сейчас даже и я Дине не нужен. Судя по всему. Надеюсь, что это временно. И вынужденно. Поскольку на нее навалилось неожиданное и непонятное горе. Как ни крути, а смерть мужа, пусть и фиктивного, это смерть близкого — или, может быть, близко знакомого — человека. Я думаю, если бы Яша тогда скоропостижно не смылся, Дина и сегодня жила бы с ним в полном согласии и ни о ком другом не мечтала и не помышляла. Но он смылся.
Теперь его хоронили. Во всяком случае, нам так сказали. Своими глазами покойника я не видел, не имел, как говорится, чести и счастья — держась от него подальше. Дина тоже его в лоб не целовала и как следует не видела. Только издали. Вообще к носилкам никто по-настоящему близко не подходил. Кроме тех, кто их нес. Каким-то странным образом живые были постоянно отделены от мертвого некоторым расстоянием. Что дало мне повод подумать — а не умер ли Яша от чего-нибудь очень инфекционного и заразного. Кроме того, я, конечно, подумал — что, возможно, это и не Яша, возможно, под его видом инкогнито хоронят другого покойника. Но это предположение вообще уже ни в какие ворота не лезло, годилось для американского кино, и я его отбросил за непригодностью и несуразностью.
А сейчас вот не возвращается Дина. Задерживается. Черт меня дернул уйти без нее в гостиницу. Главное, я не посмотрел уходя на часы, и не представляю, сколько прошло времени — двадцать минут, тридцать, сорок? Я решил засечь время хотя бы сейчас, хотя бы с опозданием. Поднял руку к глазам. Часов на руке не было. Ну да, очевидно, я снял их перед тем, как идти в ванную. Я поискал часы на столе, в карманах. Часов не было нигде. Но возможно, их не было вообще. Возможно, я забыл их дома. Да нет, не забыл. Были на мне часы и в аэропорту, и в гостинице. Я помню, что были. А теперь их нет. Неужели эти гостиничные тетки еще и поворовывают по мере возможностей? Или это не тетки?
Часы есть в холле. Я вышел из комнаты и подошел к ним, висящим на голой зеленой стене. Часы показывали девять. Что «девять» — неясно. Девять утра быть сейчас не могло, девять вечера — тем более. Ну и, конечно, вряд ли они показывали московское время. Откуда здесь оно? Тем более что и по московскому сейчас не девять. Сколько угодно, но не девять. Задавать вопросы пьющим чай не хотелось. И вообще не хотелось ничего. Только бы всё это как-нибудь естественно, само собой закончилось. Чтобы вернуться в привычную и знакомую жизнь, в свое освоенное пространство. Там и время течет как-то не так, как-то иначе, хотя сменяется довольно мучительно. Но одно дело, когда мучительно сменяется, другое, когда мучительно течет.
Я почувствовал, что стою перед часами гораздо дольше, чем может стоять перед часами человек для того, чтобы узнать время. Нужно было возвращаться. В номер. И я уже отвернулся от стены и сделал шаг в сторону коридора. Но услышал звук отворяющейся входной двери. Я посмотрел на дверь. Пьющие чай тоже на нее посмотрели. Вошел человек. Мужчина. Похожий на нашего азиата, но моложе. Возможно — брат. Или не брат. Для нашего непривычного глаза все азиаты — братья, похожие друг на друга. Одет он был обычно — весь в белом. Голова повязана не то шарфом, не то платком, не то полотенцем. Лицо внутри повязки коричнево-желтое, сухое и плоское. Как на плохом рисунке.
На пьющих чай никакого внимания вошедший не обратил. Прошел мимо, как будто их не было в помещении. А мне он сказал:
— Ты здесь? Хорошо.
Этот визитер тоже говорил без акцента. Хотя и с еле неуловимой неправильностью. Скорее южной, чем восточной.
— Мы знакомы? — спросил я.
— Нет, — сказал он. — Зачем?
— Чтобы знать того, кто знает тебя.
— Зачем?
На этом беседа исчерпалась. У нас не было больше общих тем. Собственно, у нас их совсем не было. Меня, конечно, интересовала цель его появления. Но я понимал, что спрашивать о ней бесполезно. Этот захочет сказать — скажет. Не захочет — ничто его не заставит. И никто.
— Будешь здесь ждать или пойдешь?
Вот. Значит, сейчас я всё и узнаю.
— Ждать долго?
Молчание. Он даже плечами не пожал. Стоял не шевелясь.
— А куда идти?
То же самое.
— Где Дина?
Никакого видимого эффекта. Никакой, самой минимальной реакции.
Ну нет так нет. Я обошел его слева и ступил в коридор. Он остался стоять. Я открыл дверь номера и вошел в нее. Дверь за собой закрыл. И запер.
Какое-то время я ждал, что он постучит, и мне хотелось схватить его за горло и душить. Но он не постучал. Видимо, ушел. Решил, что я не хочу идти с ним, а хочу ждать здесь. Если б он еще сказал, чего я должен ждать. Я, когда знаю, чего, и то ждать не люблю. А когда не знаю — это просто тихое надо мной издевательство, пытка, проверка нервов на прочность и на разрыв. На такое ожидание мои нервы не годятся. Не предназначены они для таких вещей.
Я походил по комнате — по периметру и по диагоналям. Заглянул в ванную. Открыл кран. Теперь кран зашипел и забулькал. Из него выстрелил пучок ржавых брызг, оставив на дне и стенках ванны рыжие пятна, пятнышки и подтеки. Затем шипение ослабело и прекратилось, иссякнув. И стало понятно, что Дина не возвращается не потому, что церемония до сих пор продолжается. То есть, возможно, она и продолжается, но в другой форме и в другом месте. Интересно, бывают ли у них поминки? А если бывают, то долгая ли это песня?
Я снова разделся и снова лег. Если лежать на спине без подушки и совсем не двигаться, жару переносишь легче. Правда, в голову начинает лезть черт знает что. Какие-то истории из прошлого, не к месту смешные, а главное, никак не связанные с жарой, Диной, Яшей и прочей Азией. Не связанные ни с кем и ни с чем сегодняшним…
В раннем детстве у меня была нянька. Баба Даша. Огромная бабища с ногой сорок третьего размера. Родители работали на две ставки. Что такое ясли, в поселке тогда еще не знали. Когда я не хотел спать, баба Даша не пела мне колыбельных и не баюкала. Она говорила: «Спы, а то я тоби зроблю!» И я моментально засыпал…
…К поезду шли довольно поздно. По какой-то длинной темной улице. Я понял, что до вокзала не дотяну. Зашел за угол и облегчил себе душу. Облегчил и только после этого огляделся. Оказалось, что я стою на центральной улице города — неплохо освещенной и довольно людной…
Господи, что за чушь? Что за черт? Мне только детско-юношеских воспоминаний не хватает сейчас для полного и окончательного счастья. Именно сейчас. Господи, Господи. Однажды к Пасхе я отправил Гене Львову телеграмму: «Христос воскрес Берлин». И тут же получил ответ: «Воистину Львов». Получил и еще раз убедился в совершенной неудобоваримости наших с ним фамилий. Особенно моей. По ее поводу шутили все, кому не лень и кому лень. Еще первая моя свадьба началась с объявления того же Гены Львова: «Вы присутствуете при взятии Берлина, — пауза, — в мужья». И все подхватили эту сверхоригинальную мысль и бросились радостно без удержу шутить: «Берлин пал», «Берлин не выдержал осады». Я уж не говорю о том, что все возможные конферансье изгалялись не покладая рук во всех клубах и домах культуры нашей великой области, равной (это между прочим) Швейцарии: «Поёт Берлин! Не весь, а Игорь.» И тому подобное. Я давно не обращаю на это внимания, как не обращаю его на то, что ударение в моей фамилии ставят не туда. Ударение в ней — на «е», а не на «и». И если бы конферансье знали про трудную жизнь Ахматовой и слышали что-нибудь про Исайю Берлина, они бы ставили ударение правильно. Но они, естественно, не слышали. Ну, да ладно. Я и сам узнал о моем этом однофамильце не слишком давно. Что жить мне ни в какой степени не мешало. Не страдал я от своего незнания и от знания — не страдаю. А вот один мой знакомый в советские времена очень из-за своей фамилии страдал. Причем фамилия у него была не Рабинович, не Кацнельсон и даже не Блюменфельд, а наоборот — Ярусский. Нормальная в общем фамилия. Если бы этот Ярусский не менял место работы по два раза в году. И выглядело это так. Приходил он в отдел кадров, начальник говорил: «Фамилия». «Ярусский». Начальник пристально смотрел на его семитский нос и такие же глаза и говорил: «Подождите вы с национальностью. Фамилия». «Ярусский, — говорил знакомый. — Понимаете? Я-рус-ский». И так далее. Короче, «Авас» Жванецкого чистой воды.
К слову, то же самое продолжалось и в Израиле, куда Ярусский уехал от всех начальников всех отделов кадров всего Советского Союза. Прямо в аэропорту, где принимали репатриантов, его попросили назвать фамилию, и он ее назвал: «Ярусский». «Чего вы тогда к нам приехали? — обиделась служащая. — Сидели бы в своей любимой России». И снова ему пришлось объяснять, что «Ярусский» — это фамилия такая. Еврейская…
И может быть, он объясняет это по сей день, если, конечно, еще жив и не додумался сменить свою обманчивую фамилию хотя бы на фамилию жены…
…Кажется, я все-таки уснул и сколько-то времени проспал. Сколько, определить невозможно. То ли пятнадцать минут, то ли час. Вообще я неплохо ориентируюсь во времени. Какие-то внутренние часы у меня есть. Но, похоже, что в чужом пространстве они не работают. Я давно подозревал, что время и пространство связаны между собой довольно крепко. Не представляю, как, и чем — тоже не представляю, но связь эта существует. Потому что чувствуется. Может, это и не весомый аргумент. Для кого-то. А для меня — вполне. Я могу даже закон природы сформулировать: всё, что чувствуется — существует. А чувствуется если не всё, то почти всё. Правда, не всеми. И не всегда. Сейчас мне кажется, что я не чувствую ничего. Атрофировался у меня чувственный аппарат. Надеюсь, что не навсегда. Хотя положение такое, что чувствовать, в общем, и нечего. Кроме возможной, надвигающейся на нас опасности. Но я и ее не чувствую. Мои умозаключения никак во мне не отозвались. Остались чисто теоретическими умственными предположениями. Вернее — пока остались. Что будет через час, я не знаю. И опять же не чувствую.
Стук в дверь. Кто это может стучать? Гостиничные входят не только без стука, но и без предупреждения. Дина стучать не станет. Значит, опять какие-нибудь идиотские загадочные в своей бессмысленности гости.
Но нет, под дверью стоит портье. И поза у нее почтительная — бумерангом.
— Тилифон. Вас, — говорит она. В голосе все то же почтение. Этого еще не хватало.
Я понимаю, конечно, что теоретически мне могут позвонить. Но кому это понадобилось? Иду к телефону. Трубка лежит на боку и шипит. Прижимаю ее к уху.
— Алло.
— Это я, — говорит Дина. Слышимость — ужасная. Как сквозь летящий песок. — Ты меня слышишь?
Я говорю:
— Слышу.
— Никуда не уходи, — кричит она. — Жди.
— Я жду.
Шипенье в трубке сменяют короткие гудки. Сильные и чистые. И слишком уж частые. Кладу трубку на место. Стою. Портье стоит у меня за спиной, поскольку я перегородил собой проход в барьере. Я поворачиваюсь к ней лицом. Она отодвигается в сторону, уступая мне дорогу.
Что ж она меня так зауважала? Что произошло и что она знает такого, чего не знаю я?
— Как дела?
Портье делает еще полшага назад и, улыбнувшись, застывает.
— Что ж вы за люди такие, — говорю я. — То «виселю», то улыбаетесь, будто с цепи сорвались.
Портье не двигается. Она в неподвижности. Тогда двигаюсь я. Двигаюсь и иду к себе, бормоча «жди, жди, а я что делаю?»
В моей комнате стоит какой-то пацан. Стоит и смотрит на меня с напряжением. Задрали! Как сюда попал — непонятно. То есть понятно, что изнутри гостиницы. Где-то он тут был, и когда меня позвали к телефону, вошел.
Я стоял и ждал. Ничего не спрашивая. Он тоже молчал. Наконец, выдавил из себя:
— Иди-от…
— Что? — я возмутился и собрался выкинуть этого пацана за дверь. Несмотря на то, что понимал — это может оказаться себе дороже. Но пацан напрягся еще сильнее и снова выдавил:
— Идди-от…
Выдавил, замахал головой — в смысле «нет-нет-нет» — и выпалил: — Иди отсюда.
— Куда? — спросил я. — И зачем?
Пацан сказал:
— Нне ззнаю. Я пппредупредил.
Да, веселые похороны. Мир приключений прямо. Идти мне отсюда было, конечно, некуда. Куда я мог уйти? Один. Без Дины. Никуда не мог. Значит, оставалось не обращать на этого заикающегося пацана внимания. И на слова его изуродованные — тоже не обращать. Забыть. И ждать. Дина ведь сказала — жди. Специально звонила, чтобы сказать одно слово. Зачем-то же она это сделала. Поэтому, естественно, будем ждать. И никаких заик. Никаких приглашений. Никаких вопросов-ответов с предупреждениями. Я отодвинул заику рукой, как предмет, и он отодвинулся. Теперь можно было лечь. И я лег. Лицом к стене.
Пацан постоял, понял, что я никуда не собираюсь, и ушел. В коридоре он свернул не к выходу, а совсем в другую сторону. В глубь здания. К торцевому окну с кондиционером. Видимо, там был еще какой-нибудь выход. Черный, запасной или аварийный. Или, может быть, где-то там имелось незакрытое окно. В каком-нибудь чулане. Или в подсобке. Через которое этот пацан и просочился в гостиницу.
Теперь началось самое нехорошее. И единственно возможное: вынужденное ничегонеделание. В расчете на кривую, которая так или иначе вывезет. Правда, вывезти она может туда, куда не надо. Или надо, но не тебе. Это я понимал. Только понимать — иногда ничего не означает. Поколения и поколения наших людей надеялись на эту проклятую кривую, как на Бога. И, что интересно, кривая их не подводила. Или подводила, но редко. Так редко, что об этом и не помнит никто. Потому что мы зла не помним. Мы помним только, что кривая красной линией проходит через всю нашу жизнь. И то не всегда.
А с другой стороны — что мне еще оставалось делать? Кроме как ждать. Бегать по этому безлюдному городу, состоящему на девяносто процентов из горячей пыли и похожему на мираж? Бегать и искать, куда девалась Дина? И где скрывается бывшая похоронная процессия? Или хотя бы наш — вот он уже и нашим для меня стал — азиат-абрек-ордынец? Но и сидеть здесь, в номере без воды и воздуха, в полном непроницаемом неведении тоже не хотелось. И было невмоготу. Видимо, поэтому я вышел в холл. Прошел по прохладному коридору, постоял, глядя на администраторшу с чашкой чая у губ, и сел в жесткое кожаное креслице. Оно — пыльное и просиженное — стояло в углу. Отсюда мне был виден и вход, и администраторша, и коридор вплоть до двери моего номера. То есть, конечно, нашего номера. Нашего с Диной. Более того, в окно я видел довольно длинный кусок дороги. Зачем мне нужно было все это видеть, держать в поле зрения, под наблюдением — точно не знаю. Зачем-то, наверно, было нужно. Может быть, просто из-за моей нелюбви к неожиданностям. Я не люблю даже, когда со мной здоровается человек, если я до этого не успел его заметить. Поскольку получается, что я-то его не видел, зато он меня видел прекрасно. И, возможно, наблюдал за мной какое-то время исподтишка, рассматривая и делая какие-нибудь свои выводы и заключения.
Но сейчас я занял выгодную позицию. И она — позиция в смысле — все неожиданности исключала. Правда, я не очень понимал, как смогу это использовать. При пущей необходимости. Кольт, что ли, успею выхватить из штанов вовремя? Так нет у меня ни кольта, ни «Вальтера», ни даже «Макарова» захудалого. Да и стрелять я умею больше теоретически. В тир, помню, меня приятели затащили. На гастролях не то в городе, не то в поселке каком-то. Где тир был единственным постоянно действующим развлечением граждан. Так я чуть мужика этого не грохнул. Того, что пульки и ружья выдает. А ни в одну мишень как ни старался, как ни целился — не попал.
В общем, я сидел в своей выгодной, выигрышной позиции, не зная, зачем в ней сижу, и мечтал простыми одноклеточными мечтами. Вид эти мечты имели приблизительно такой: Дина. Вода. Аэропорт. Дом. Дождь, плюс пятнадцать. Эти мечты пролетали сквозь меня, улетали куда-то и, полетав, возвращались снова — и снова пролетали сквозь. Кстати, я поймал себя на том, что они — мечты — не мешают мне держать в поле своего зрения все, что в него попадает. Не мешают вести наблюдение. И за входом, и за дверью номера, и за портье, и за дорогой. Они — не мешают мне. Я — не мешаю портье. Которая тоже не просто пьет чай. Ее глаза я постоянно вижу над ободком пиалы. И она тоже смотрит как на меня, так и в окно, на дорогу. И за дверью она наблюдать не прекращает ни на миг. Разница между нами только в одном — она знает или предполагает, что может увидеть, я — понятия не имею. Так как для меня происходящее чуждо, непонятно и необъяснимо. То есть объяснить мне все было бы можно, и я бы все понял — я ж в конце концов не дурак и не идиот какой-нибудь конченый. Но никто этого делать не собирался. А сам я ни в чем разобраться не мог уже потому только, что не знал, в чем именно нужно было мне разбираться. От меня все было скрыто, все невидимо. И ощущение это не из приятных. Когда ты понимаешь и даже наверняка знаешь, что где-то рядом происходит нечто. А что и где происходит, и насколько это для тебя важно, и чем чревато — ты не можешь себе представить просто потому, что не можешь.
Наконец, мое сидение в узком кресле увенчалось успехом. Настоящим и безоговорочным успехом, я бы сказал. Ради него можно было и посидеть. Хотя что изменилось бы, если б я не сидел здесь, а лежал в номере? Наверно, ничего.
Но я сидел. И увидел Дину, идущую по дороге. Увидел первым. Шла она быстро, пыля шагами. Портье тоже ее увидела, сняла трубку и что-то в нее сказала. По-моему, даже не набирая номер.
Дина вошла в гостиницу. Я уже встал и встречал ее у двери. Она скользнула по мне взглядом и, не останавливаясь и не сбавляя ход, прошла в коридор. Я, понятное дело, проследовал за ней, говоря «где ты была?», «сколько можно ждать?» и тому подобное.
В номере Дина прекратила мои вопросы, сказав:
— Игорь, спой что-нибудь, — затем сняла с плеча сумку, которой раньше у нас не было, быстро собрала по комнате вещи, осмотрелась — все ли взяла, снова повесила на плечо новую, не нашу сумку — и сказала: — Пошли.
Я взял нашу сумку, и мы пошли.
Паспорта уже лежали на стойке. Увидев нас, портье подвинула их пальцами к краю, к нам поближе. Дина на ходу смахнула паспорта в карман, оставила на стойке ключ и толкнула ногой дверь. Боковым зрением я увидел, что портье опять сняла трубку телефона.
У гостиницы стояла желтая потасканная «Нива» с работающим мотором. Мы сели на распоротые сидения, и машина, пробуксовав, тронулась с места. И началась совершенно сумасшедшая езда в нетронутом никакими дорогами пространстве. Наш ордынец гнал «Ниву» по диким песчаным просторам, психовал и бормотал себе под нос какие-то слова, похожие на птичьи ругательства.
В аэропорт мы приехали вовремя. До начала регистрации оставалось еще полчаса. Побродили. Выпили у стойки чаю. Улетели спокойно, без эксцессов. Сумку, которой у нас раньше не было, Дина несла на плече, прижимая локтем к телу. Ее никто не проверял — ни там, ни у нас. Ордынец улыбался и махал нам рукой до последнего, пока самолет не повернулся к нему железным хвостом и не покинул взлетное поле. Вернулись домой. А дома Дина сказала:
— Давай договоримся сразу. О поездке забыли навсегда. Ладно?
— Ладно, — сказал я.
А что я мог сказать? Ни-че-го. Помнить-то мне фактически было нечего. Кроме самого факта нашего с Диной пребывания в песках. Всё происходило где-то рядом, поблизости. Не у меня на глазах. Без моего участия. Да и не знал я, что именно происходило и происходило ли что-нибудь вообще. Я жил неделю в неведении. А неведение помнить трудно. Неведение — плохая пища для воспоминаний. Ощущения же быстро притупляются, забываются, уходят. Или искажаются прошедшим и продолжающим проходить временем.
И они разошлись…
(Четырёхчастный триптих)
I.
ГАЗИРОВКА
Еще совсем недавно свой культурный праздничный досуг они проводили так: сидели за круглым столом и пили газированную водку. И дико наслаждаясь, пьянели — вчетвером при одной бутылке. То есть эффект газировка производила поразительный. Вернее — поражающий. Или нет — потрясающий она производила эффект. Вот как нужно сказать, чтобы было правильно, и трезво отражало реалии в их полном задушевном объеме. Потому что газированная водка потрясала основы и представления обо всём. Хотя, несмотря на убойную силу напитка, пили они подолгу, по три-пять часов подряд. Так как, во-первых, делали это интеллигентно, очень маленькими, чуть ли не игрушечными рюмочками, а во-вторых, они же не просто пили и всё. Они — умно беседовали. О литературной критике, зимней рыбалке и ее последствиях. А также — о льдинах и дураках, о клеве в лунную ночь и о значении ритма в художественной прозе.
На улице в это время лаяла какая-нибудь собака. Или пес. Или пес его знает, кто лаял. Но лаял громко. Может, рыбы хотел.
Петарды разрывали воздух в куски, что-то празднично символизируя.
Пролетарии всех стран соединялись с безработными, выпивали в складчину и шли к победе коммунистического труда по улицам и площадям, по городам и весям, рядами и колоннами.
А где-то в отдалении выл, как самолет, троллейбус. Разгонялся, набирая в темноте скорость. Видно, рвался взлететь. Но не взлетал из-за отсутствия крыльев, а ехал, ехал и ехал, удаляясь в пространстве города и увозя за собой вой своего электромотора.
— Понимаете, — говорил под этот вой и лай Макашутин, встряхивая сифон с напитком и прикладывая к нему ухо, — вся современная критика зиждется на извечной мечте русской интеллигенции «об дать кому-нибудь по морде».
— Понимаем, — отвечал Адик Петруть и добавлял: — Лей. На эту тему надо выпить.
— Тебе — не надо, — возражала Адику его бывшая жена, с которой Адик собирался в скором будущем расписаться, пожениться и, может быть даже, обвенчаться в церкви, имея серьезные намерения.
Она, распустив волосы и груди, сидела, думая об этом скором будущем. Но нить беседы не упускала и принимала в ней посильно активное участие.
— А я говорю, время — источник ритма, — говорил Дудко чуть не плача, — это сказал Иосиф Бродский, и я с ним согласен, как никогда ранее и никто более.
На что Адик, соглашаясь и с Дудко, и с Бродским, восклицал:
— А помните, как мы в детстве, отрочестве и юности ходили рыбу удить? Из-подо льда зимой морозной. И нас чуть не унесло, а других унесло, и их ловили потом в море сетями и траулерами, борясь за их жизни со смертью, а также и со стихией.
Конечно, на Адика и на слова его мало кто обратил внимание, все только подумали, что надо как-то ему попробовать не наливать больше газировки. Потому что жили они всю жизнь на Днепре, впадающем, правда, в море, но через много сотен километров, и траулеры, о которых предлагал вспомнить Адик, объяснялись лишь неординарными качествами напитка, воздействовавшими на буйство его фантазии. Не налить же Адику было очень непросто. Так как стоило Макашутину прикоснуться к сифону, он хватал свою рюмку пальцами, тянул ее через стол и шутил:
— Мне — с сиропом.
Кстати, сироп мог бы оказаться не пьяной шуткой, а интересной идеей общечеловеческого значения и содержания. Макашутин это понял сразу. Потому что если газированная водка в чистом виде вполне убивала лошадь или быка, то газированная водка с сиропом, надо думать и полагать, граничила с оружием массового поражения. Только ждала, что до этого кто-нибудь додумается. И вот Макашутин додумался.
Газировать водку — тоже между прочим он додумался, а не кто другой. В целях экономии денег и благодаря наличию в доме сифона оригинальной конструкции с баллончиками. И додумался он до этого как-то просто, элементарно и без усилий со стороны ума. Дудко сказал однажды, увидев вышеупомянутые баллончики:
— А может, — сказал, — взорвем их вместо петард для шуму и смеха?
— Зачем? — ответил ему Макашутин. — Лучше мы ими водку загазируем. Новый год как-никак настаёт. Что само по себе и не ново.
С того всё и началось. А начавшись, продолжилось, не обойдясь без экспериментов и поисков. Пробовали газировать вино. «Славянское», например, и портвейн как белый, так и красный южнобережный.
— Истина в вине, это же ясно, — говорил Макашутин.
— Неясно только, как её оттуда извлечь, — говорил Дудко.
И в конце концов, экспериментально решили, что вина газировать можно и пить их можно. Но лучше в крайних финансовых случаях, с большого человеческого горя и бодуна. Ну, не пошли вина компании. Не привыкла она к ним со школьной скамьи. То есть они пошли, конечно — куда они могли деться, — но не впрок. И разговоров после них ни о литературе, ни о подледном лове не получалось никогда. И бесед — тоже не получалось.
Зато после фирменной газировки — откуда что бралось! И до такой степени приятны и насыщены смыслом были беседы Макашутина, Дудко, Петрутя и его будущей жены, ныне невесты, что без них они не могли уже обходиться в повседневной духовной жизни. Говорили, конечно, о многом и о разном. Но чаще всего, понятное дело, говорили о литературной критике, подледном лове и роли ритма. Эти темы считались у компании излюбленными, бездонными и неисчерпаемыми. Да таковыми они и были или, как говорится, являлись.
— Хорошая проза, — говорил в ходе бесед Дудко, — это та же поэзия, но без рифмы, строфики, цезуры и остального.
А Макашутин говорил:
— Только критики этого не понимают и никогда не поймут — заразы.
Жена Петрутя говорила на это обычно «да», а сам Петруть оспаривал постулаты собеседников, говоря, что не может быть художественной прозы без критики и ритма — так же, как не может быть без них подледного лова. Поэтому оба эти вида искусства друг другу не противоречат, а сродни.
И всё бы шло хорошо и прекрасно, а, возможно, и великолепно, если бы не побочный эффект. Нет, утро после газировки наступало мягко и необременительно, но вот способность вести беседу и поддерживать ее не употребив — стала у всей компании медленно, но верно истончаться. Пока не истончилась окончательно. И не то что о литературе или о том же подледном лове исчезла способность у них умно беседовать, а вообще обо всём и напрочь. И они собирались — если помимо газировки — и смотрели друг на друга молча, и впечатление производили сами на себя гнетущее и отвратительное. Особенно Дудко и Петруть выглядели нехорошо. На них просто больно было смотреть. Хоть на Петрутя больно, хоть на Дудко. А на Макашутина ничего — можно было смотреть. Но он, Макашутин, любил не себя в компании, а компанию как таковую, поэтому старался, чтобы она была обеспечена всем необходимым для содержательной жизнедеятельности и времяпрепровождения.
Старался-то он старался, да не всё от него зависело, и подвластно ему было не всё.
И вот настало оно, время, когда баллончики к сифону закончились и все вышли. Все до единого как один. Год верой и правдой послужили и закончились. У Макашутина они валялись без дела со старых времен, потом им нашлось достойное применение — и всё. А новые, ясно и понятно, выпускают в наше трудное время в нашей трудной стране, но поиски мест их продажи пока успехом не увенчались. Дудко, Макашутин и Петруть не прекращают искать и надеяться, надежда ведь умирает последней. Но всё-таки и она умирает. А без баллончиков водку как газировать? Никак ее без них газировать невозможно. И стали Макашутин, Дудко, Петруть и его бывшая будущая жена грустными и молчаливыми, и впали в печаль и в уныние, которое есть грех. Очень их угнетала невозможность поговорить о подледном лове, критике и роли ритма в художественной прозе. Они без этого фактически себя теряли и не могли найти. А вот замену баллончикам — хотя бы временную — найти пытались. Собрались, как обычно, у Макашутина и стали пытаться. Дудко сказал:
— Давайте заменим газирование кипячением. На медленном огне.
Петруть возразил, что надо всего лишь смешать водку с шампанским в пропорции один к одному, и эффект будет тот же. Если, конечно, лить водку в шампанское, а не наоборот.
Жена Петрутя Нюся тоже возразила — в том смысле, что водка с шампанским — это не новость, что их смешивали еще древние греки с древними римлянами, и что это старо, как мир, и проверено временем, но дорого, а Петруть скорчил ей оскорбительное выражение лица и отвернулся.
И ни к чему не пришли Дудко, Петруть, Макашутин и жена предпоследнего. Ни к чему конкретному. Зря просидели всю ночь напролет до шести часов пятнадцати минут включительно. И когда они вышли от Макашутина на утренние улицы города, женщины в летах уже молча продавали газеты и предлагали жаждущим подать кофе в постель. Весёленький жизнерадостный дядька желал всем встречным всего наилучшего: здоровья и работы. Черный кот бандитского вида бил рыжую кошку. Вместо того, чтобы её любить.
— Надо что-то делать, — сказал Дудко.
— Надо, — сказал Петруть.
А его будущая жена сказала:
— Да.
И они разошлись. В разные стороны. По своим домам и жилищам.
Чем занялся, придя домой, Дудко — практически неизвестно. А жена Петрутя сразу поставила на газ чайник.
Петруть подошел и заглянул в него. Чайник был полон. До самых краев.
— Зачем ты ставишь на газ переполненный чайник? — спросил Петруть, как спрашивал каждый вечер.
— Не знаю, — ответила его жена, как отвечала всегда.
***
II.
ЛЮБОВЬ
Алина и Печёнкин гуляли, дыша после акта взаимной любви полной грудью. В воздухе глупо пахло снегом и огурцами. Печёнкин чувствовал себя счастливым и лёгким, как дирижабль. Изо всех сил он старался держать свой организм в равновесии. Но организм не держался. Возможно, потому, что Печёнкину было хорошо и вспоминалось приятное. Из недавнего прошлого. Из того, что произошло час или полтора назад. Например, он вспоминал, как стоя под душем, поймал на лету моль. Сжал ладонь и бросил тело насекомого в воду. И оно долго плавало, расставив все крылья и ноги, плавало по поверхности и никак не попадало в сливное отверстие. И то, что было перед принятием душа, он тоже вспоминал. Местами. Естественно, наиболее приятными.
— Снег в начале зимы и года выглядит неубедительно, — сказала во время этих воспоминаний Алина, и Печёнкину стало еще лучше и еще приятнее. В смысле, на душе. И он ответил:
— Глупо грешить, не понимая, что грешишь. Потому что если понимаешь — грех гораздо слаже. Очень просто. Грешить нельзя? Нельзя. Запрещено? Запрещено. А запретный плод сладок и нежен на вкус.
Такие разговоры Алина и Печёнкин вели постоянно и беспрерывно. Поскольку они не просто любили друг друга, они жили интеллектуальной половой жизнью. Именно поэтому Печёнкин говорил:
— Любовь крепка, и танки наши быстры! — он мог позволить себе так шутить.
Прошли мимо магазина «Обувь на Ленина». Не в смысле, на Владимира Ильича обувь в продаже, а в смысле, магазин на улице Ленина расположен. Кроме Алины и Печёнкина, на этой улице не было почти никого живого. Только шли впереди красивые длинноногие девочки и увлечённо говорили ни о чём, а ради поддержания светской беседы.
Проплыла мимо реклама коктейль-холла «Сэр Гринвич»: «Испытай потрясающий оргазм от вкуса всемирно известных коктейлей!» Алина посмотрела на Печёнкина, Печёнкин — на Алину, и они стали смеяться, как сумасшедшие дети.
Тетка на паперти храма Дружбы Народов и Всех Святых продавала зимнюю зелень: лук, петрушку и подснежники. А также японский фильтр для очистки святой воды. Толстый пудель самозабвенно метил внутренней влагой деревья и кустарники, госучреждения и скамейки. За ним исподволь наблюдала бездомная болонка. И видно было, как она ему завидует.
— Хорошо, что у нас есть любовь, — сказала Алина, глядя на толстого пуделя.
— Любовь — это страшная сила, — сказал Печёнкин. — Особенно пока она есть.
Хотя сегодня им было все-таки не совсем, не окончательно хорошо. Когда они уже любили друг друга, этажом ниже стали кричать «ой, люди, помогите» и «ой помогите, умирает Митя». Эти две фразы повторялись одна за другой. Монотонно и бесконечно, по кругу. И конечно, это их отвлекало от объятий и от сути любви как таковой. Тем более что крики не прекращались долго, а звукоизоляция в доме отсутствует. И им было слышно всё. И как старуха требовала ломать дверь, и как какие-то люди, видимо, соседи, совещались на площадке, и как притащили откуда-то звонкую лестницу из металла, и как лезли по ней на лоджию второго этажа. Да вообще всё они слышали — все подробности и даже все мелкие детали.
Понятно, разговоры о том, что «она лежачая», а теперь и «он будет лежачим без сознания», не стимулировали и мешали любви. Приезд «скорой помощи» тоже ей не помогал. Но Печёнкин с Алиной не очень на это сетовали и с помехами мирились. Они прилагали все свои силы, в том числе и силу своего чувства, чтобы смести со своего пути помехи и преграды. И сметали их как могли и как умели.
Сейчас, гуляя, про лежачую, кричащую «помогите» старуху они не вспоминали. Ни Печёнкин не вспоминал, ни Алина. Один раз только вспомнили. Вместе, но каждый сам по себе, независимо. И вспомнили они, как кто-то, пытаясь её унять, чётко сказал: «Спасти можно тонущего! А умирающего на девяностом году жизни — спасти нельзя. Потому что от смерти спасти — нельзя!».
— Как хорошо, что у нас есть отдельная квартира для любви, — сказала Алина Печёнкину.
— Несмотря ни на что! — сказал Печёнкин, и они ощутили счастье, переходящее в истерику.
— Зайдём куда-нибудь, — сказал от счастья Печёнкин.
— Зайдём, — сказала Алина.
Они зашли в кафе «У Кафки». Сели за столик в углу. Подошла официантка. Лицо — как у «Девушки с веслом». На огромной круглой груди огромный круглый значок с надписью «Хочешь? Спроси у меня — как!». «Да, — подумал Печёнкин, — у нее есть чем стать на защиту нашей родины». Подумал и сказал:
— Кофе. Два! — официантка взглянула на сидящего Печёнкина сверху, через грудь. — Двойных, — сказал Печёнкин.
Официантка ушла, а Алина сказала:
— Аппетит у меня что-то ухудшился. Борщ ем, только когда голодная. А так — нет.
Потом они долго и не торопясь пили кофе. Наблюдали, как он остывал, и ни о чём не говорили. Хотя и думали. «Бессмысленное времяпрепровождение, — думали они, — бывает иногда настолько приятным, что обретает глубокий смысл и, значит, становится полезным».
После кофе в кафе они снова гуляли. По стылой холодной слякоти. Чавкающими осторожными шагами. Ведь под слякотью — лед и скользко. Можно упасть на спину, удариться головой и умереть.
— Как ты думаешь, — спросила Алина, — что будут делать лежачие старик со старухой?
— Лечиться, лечиться и лечиться, — ответил Алине Печёнкин. — Как завещал великий Гиппократ. Или, возможно, это завещал Эскулап. Что в принципе одно и то же.
— Не завещали они ничего такого, — сказала Алина. — Это я заявляю как фельдшер.
— А кто завещал? — сказал Печёнкин.
— Не знаю, — сказала Алина.
— Но кто-то же завещал, — сказал Печёнкин. — Не мог не завещать.
Они обняли друг друга и поцеловали. И постояли, слившись в едином порыве и в общем французском поцелуе. После поцелуя он пошел к себе, а она — к себе. Разошлись они то есть по жилищам в соответствии с пропиской и постоянным местом жительства их семей и их самих. И даже успели к ужину. Алина успела ужин приготовить и подать мужу своему Петру Исидоровичу, совместно с ним нажитым детям Саше и Наташе, а также матери мужа Анне Васильевне Костюченко.
Когда они уже сидели за столом, в дверь дико позвонили. Пришёл сосед. Он всё время забывает или теряет ключ от собственной квартиры, приходит и говорит: «Можно пройти?» Обычно он бывает глубоко нетрезв. Лет ему около шестидесяти. Алина волнуется:
— Вы упадёте.
— Та не, — говорит сосед. — Я, как мартышка, перескочу.
И перескакивает с балкона на балкон.
После соседа ужин продолжался без приключений и перерывов. Пока сам собой не закончился.
А Печёнкин успел прямо к накрытому клеёнкой столу. Сел, начал есть венскую сосиску с хреном и вдруг неожиданно для себя и для окружающей его семьи громко, как бы это поточнее выразиться, ну, в общем — испустил дух. Семья положила вилки и посмотрела на Печёнкина.
— Может, это давление? — сказал Печёнкин и смутился.
В подъезде кто-то чихнул три раза кряду. Кто-то вскрикнул и громко-громко зевнул. Кто-то открыл почтовый ящик. И закрыл его, скрежетнув металлом о металл. Газанула машина и уехала. Собрался дождь. Но не пошел. Что ему помешало, неясно. Видно, тайна сия великая есть.
***
III.
ВЕЧЕР
Шли по улице. Просто — шли и всё. Шагали ногами по асфальту. Из-под ног вылетали брызги. И обрызгивали всех без разбора.
На земле лежал снег. В снег шёл дождь. Вернее, шел дождь со снегом наперегонки. Снег был легче и белее дождя. Зато он тонул в дожде, и в лужах тоже тонул. Несмотря на лужи, холодало, от чего мерзли зубы и уши.
Следом не отставали от нас ни на шаг мужчина и женщина. Они говорили между собой. Женщина говорила: «Да нет, звонок был какой-то. Но сорвалось». А мужчина говорил: «Ну как всегда».
Встретился мальчик с дворовой собакой на руках. Собака выглядывала из отворота пальто и не лаяла. Сидела послушно. Боясь людей, которых шло много по случаю часа пик или, другими словами, ввиду окончания трудового рабочего дня. Они, эти люди, шли целевым назначением. С работы к себе домой. А мы тоже шли, но цели никакой не имея и тем более не преследуя, шли ниоткуда и никуда. Пока не дошли до старухи. Старуха побиралась и просила милостыню. Мешая народу идти:
— Завтра праздник, граждане, — повторяла она, стоя на тротуаре по ходу людского потока, и голос её был не только хриплый, но и скрипучий. — Поздрав-ля-ю.
Качур толкнул старуху, и старуха упала в мокрое. Качур порылся в ней и вынул какие-то деньги.
— Крутая старуха, — сказал он и стал пересчитывать мелочь. Мелочи оказалось много и она не пересчитывалась. Люди обтекали нас, Качура и старуху, стремясь сесть в общественный транспорт как можно раньше и как можно удобней. Троллейбус размахивал сорвавшимися с проводов рогами. Мы и другие следили за движениями рогов. Следили и думали: «Порвёт провода или не порвёт? Или порвёт?» Здесь же, в тесноте и обиде стояли в очереди за пассажирами маршрутки. Волнуясь — хватит ли на всех. Но пассажиров всё прибывало. И маршрутки радостно загружались, уезжая одна за другой.
Девки-зазывалы сорванными голосами орали:
— «Правда», Калиновая, Образцова. Проезд пятьдесят копеек.
— Левобережный-три, два места. Проезд пятьдесят копеек.
— В человеке всё должно быть, — сказал Басок. — И глотка, и печень, и глаза, и зубы.
Он заразительно захохотал. Но никто не заразился. Коля вошёл в телефонную будку и куда-то коротко позвонил.
— Поехали, — сказал он, и мы сели в маршрутку.
Качур ссыпал старухину мелочь в ладонь водителю. Несмотря на приклеенную к стеклу категорическую бумагу: «Обилечивание пассажиров производится в режиме самообслуживания».
— Сдачи не надо, — сказал Качур.
— Куда едем? — спросил Басок.
— Неважно, — сказал Шапелич.
Куда-то приехали. Вышли. Шли вдоль домов и им поперек.
— Это моя родина, — сказал Шапелич. — Малая. Я тут жил. После того, как родился.
— Тогда веди, — сказал Коля.
— Куда? — сказал Шапелич и повёл.
На пятиэтажном доме болталась вывеска «Молоко». И стрелка: «В подвал». Спустились. В подвале вместо молока обнаружился ночной бар. В баре гулял народ. Пьяный и весёлый. Нагулявшись, он вылезал из подвала на свет Божий и снова падал обратно. По неосторожности и по пьянке. Вернулись наверх. Постояли.
Минут пять из бара никто не выходил. И на поверхность не поднимался. Потом многие вышли и поднялись. Качур поймал двоих. Потом ещё двоих. Потом ещё одного. Он в строгой очерёдности наносил пойманным прямой удар в голову, вынимал из тел деньги, а тела опускал на асфальт. Басок и Шапелич вяло пинали их ботинками, мы с Колей — не пинали.
— В Нигерии живут нигеры, — говорил пиная Басок, — в Намибии — намибы, в Австралии — австралы, а вы — дебилы.
Воздух потеплел, и уши в нём больше не мёрзли. Мы сняли шапки и глубоко вздохнули. Но тут снова похолодало, и шапки пришлось надеть на прежнее место.
В бар вошли в шапках и заказали виски.
— Дрянь, — сказал я об их вкусе.
— Класс, — сказал Коля, выпив.
А Басок и Шапелич смолчали — им лишь бы с трезвостью своею расстаться. Качур повернулся к столу. Там шла игра теат-а-тет.
— Водка, селёдка, туз, — сказал Качур, и добавил к сказанному: — Очко.
После чего сгрёб со стола дензнаки. Игроки вскочили. Вскочив, они возмутились. Можно сказать, во весь голос. Качур ткнул им кулак. Кулак был размером с дыню. И игроки успокоились. И тихо, по синусоиде, сошли на нет.
Качур купил виски. То есть не пить, а с собой.
— Можно идти в гости, — сказал на это Шапелич.
Пришли прямиком к Мише. Где оказалось людно. Особенно много в квартире было разных детей. Но были и женщины. В том числе красивые. Всем им Миша годился в отцы. Я стал посреди комнаты и громко спросил:
— Миша, сколько у тебя детей?
Миша сказал:
— Одна. Вон та. Которая красавица. И внучка у меня одна. Дочь родила в шестнадцать, я женился в семнадцать. И вот результат.
— А остальные — это кто? — не мог понять я, не понимая заодно и кто такой Миша.
— А остальные — это так. Со двора, — сказал Миша. — Кроме жены Веты. Вета не со двора. Она в кухне. Сейчас нам есть принесёт.
И действительно. Вета принесла тарелку с кровяной колбасой и глубокую миску салата. Салат лежал в этой миске и истекал майонезом. Колбаса пахла. Дети перемещались по квартире. Красивая Мишина дочь начала собираться. Мы смотрели, как она собирается. Это было красиво. Так красиво, что Басок не удержался.
— Глядя на вас, и не скажешь, что вы произошли от обезьяны, — сделал он ей комплимент. Она повела глазами в южном направлении и отодвинула Баска от двери.
Потом мы выпили виски. И закусили салатом. Миша закусил колбасой. А Коля не закусил. Ну что же, ему виднее. Потом мы выпили ещё, и дети стали перемещаться медленнее и реже. Потом они плавно, по одному и по два, исчезли.
Пришёл Мишин родственник. Весь битый, с заплывшим фиолетовым глазом.
— Хелло, село! — сказал родственник и обрадовался: — Да я прямо с корабля на бля.
— Что это? — спросил Миша.
— Это лицо фирмы, — ответил родственник, который был новым русским.
— Тогда сходи за водкой, — сказал Миша. Хотя виски ещё не кончилось. Оно было в достатке.
И родственник сказал:
— Виски ещё не кончилось. Виски — в достатке.
А Миша ему возразил:
— Ну и что? Достаток — дело поправимое.
— Ладно, — сказал родственник. Положишь мою руку — пойду.
Миша тут же её положил. А родственник не пошёл. Миша ещё раз положил. А родственник ещё раз не пошёл.
— Всё, ты мне больше не родственник, — сказал Миша.
— Все люди братья, — сказал родственник.
И тут он увидел нас. Увидел и, конечно, спросил:
— А вы кто такие будете?
— Мы складские! — ответили мы с Колей, а Качур с Баском ударили себя в грудь. Мол, мы не будем, мы есть.
Родственник уточнил, хозяева ли мы склада — ему это было важно. Коля ответил:
— Мы грузчики.
А родственник сказал:
— А.
Нам это не понравилось. Всем, кроме Шапелича. Шапелич в разговоре не участвовал. Он сидел, положив ногу на ногу, и приставал к Вете. С толстой подошвы ботинка капала на пол вода. Мы поднялись, взяли Шапелича и ушли от Миши с обидой. Походили туда и сюда. Ища приключений на худой конец. Но приключения на улице не валяются.
— Ну что, по домам или по коням? — спросил Качур.
— По домам, — сказал Коля. — Завтра на работу идти рано.
Он вошёл в телефонную будку и куда-то коротко позвонил. Мы попрощались. Пожали друг другу руки. И разошлись. На все четыре стороны. Вернее — на пять.
В подвале моего дома как всегда варили наркоту. Вокруг толклись жаждущие. Они гадили в подъездах. Пытались взламывать двери. Воровали лампочки и плафоны, коврики и газеты.
Шоферюга в тапочках с первого этажа стоял в ожидании и на нервах. Не отходя от подъезда. Ему только что поставили телефон, и он позвонил в милицию ментам. Больше звонить ему было некуда. А хотелось. И он сказал по телефону 02:
— Приезжайте, вот сейчас варят, и очередь уже налицо.
Менты сказали «щас приедем». И не приехали.
Шоферюга ждал их, замерзая. На зиму он отпускал себе бороду и носил её вместо шарфа. Для тепла. Но борода в этом году получилась жидкая и грела плохо.
Я постоял с шоферюгой, и мы побеседовали. Посреди беседы он сказал:
— Суки, — и стал грязно выражаться крылатыми и другими выражениями.
Наверное, он был прав.
Я поднялся к себе и отпер входную дверь. Мать и сестра спали. Думаю, часов с девяти.
Есть после салата не хотелось. Спать вроде тоже. Я вышел на балкон. Река текла вдоль берегов, как время. Только медленнее. Преступники и наркоманы шумно жили под окнами.
Вернулся с балкона в квартиру и лёг. И прислушался к звукам: за левой стеной комнаты бьет барабанная дробь. По крыше стучит дождь. Где-то стучит молот — работает цех завода. Кто-то стучит на машинке. А вокруг стоит тишина.
Наконец я уснул.
Я спал.
И у меня во сне тикали часы.
***
СКЛАД
И вот наступило неизбежное завтра. Сначала полночь, потом ночь, потом утро. Ну, как обычно и как всегда, без отклонений от заведённого миропорядка. И люди проснулись в своих холодных и тёплых постелях: пожилые люди проснулись раньше, зрелые позже, а молодые — ещё позже. Проснулись и стали жить не работая, поскольку у всех у них — и у работающих, и у безработных — был выходной. Плюс, конечно, преддверие праздника, когда у большинства человечества на душе проступает радость или хотя бы спокойствие. Не у всего, конечно, человечества — но у большинства…
А самой первой, или одной из первых, проснулась, конечно, Сталинтина Владимировна. Потому что спать ей мешали возрастные явления — нищета и бессонница. Вообще-то нищей на сто процентов Сталинтина Владимировна не была, при наличии мало-мальской пенсии от государства и родины. Но старухой — была. Это бесспорно. И с праздниками она поздравляла прохожих мимо людей от чистого, можно сказать, сердца, без подвоха и задней мысли. Хотя и в искренней надежде на будущую удачную операцию. То есть ей деньги на неё были нужны, как свежий воздух. И осталось только собрать их своими слабыми силами и руками. Чтобы снять хирургическим вмешательством катаракту и заменить хрусталик по методу академика и профессора Святослава, кажется, Фёдорова. Как минимум, на одном глазу. Без требуемой суммы денег сделать это — в нынешних экономических условиях кризиса — нельзя никак. Вот она и изыскала способ деньги добыть — с миру по нитке и мелочи для нужд своего старческого здоровья. А то Сталинтина Владимировна совсем мало чего видела в последние годы. Гречку перебрать, чтобы отделить зёрна от плевел перед тем, как сварить их и съесть, и то зрение ей не позволяло. Но она всё равно перебирала её, на ощупь. Говорила: «Я всю жизнь перебирала гречневую крупу — так сколько мне там осталось? Уж буду перебирать до смерти». Короче, дальше своего носа ничего Сталинтина Владимировна не видела. Одни контуры размытые и силуэты, чуть цветами радуги тронутые. Недавно она по зрению впросак угодила и в неловкое двойственное положение: проходя, остановилась напротив церкви и решила на неё перекреститься. А оказалось, она не на церковь, а на горотдел милиции крестилась. Церковь дальше располагалась, по ходу движения. Она до неё не дошла. Конечно, с таким слабым контурным зрением трудно ей было жить на старости своих лет насыщенной жизнью. И с таким именем — тоже трудно. Многие же по сей день не устают её упрекать, что названа она в честь кровопийцы мирового пролетариата и тирана всех времён и народов. А она, во-первых, в имени своём перед людьми не виновата и ответственности за умерших родителей не несёт, а во-вторых, с тираном её имя никак прямо не связано. Её в память и во имя мадам де Сталь назвали, Анны Луизы Жермен. Любили её отец с матерью — мадам эту знаменитую — в свои юные годы и читали взахлёб и вслух до потери сознания. А товарищ Иосиф Сталин, когда родилась Сталинтина Владимировна, был еще в масштабе страны ничем и всем покуда отнюдь не стал. Она в двадцать четвёртом году родилась. При жизни Ленина ещё, между прочим, Владимира Ильича. Того, что лежит в мавзолее из мрамора, по самую сию пору в целости и сохранности, как живой. Правда, он тогда уже сильно и неизлечимо перед смертью болел. Но теперь этого никто уже точно не помнит и разбираться в её личных исторических мелочах не желает, потому что роль личности Сталинтины Владимировны в истории мизерна. А некоторые вообще ничего не желают знать — ни имени, ни почтенного возраста, ни чего другого, просто бьют её из низких корыстных побуждений под дых и всё. А также бессовестно грабят. Люди же разные бывают и встречаются, и проходят по улицам сто раз на дню в обе стороны. Есть добрые интеллигентные люди, такие как Макашутин, Дудко и Адик Петруть, к примеру. Их интеллигентность всегда ярко выражена, и они, уважая возраст и старость, и груз прожитых лет, подают Сталинтине Владимировне какую-нибудь несущественную мелочь. Если, конечно, она у них у самих есть в карманах, и они могут позволить себе подобную роскошь. А жена Петрутя, которая и не жена ему, а так — седьмая вода на киселе — фрукт уже совсем иного замеса и всегда кисло смотрит, когда деньги Сталинтина Владимировна обретает с легкостью необыкновенной. И потом высказывает свои мелкособственнические соображения и Адику, и Макашутину, и Дудко в личной беседе. В том смысле, что почему это вы какой-то неадекватной старухе деньги ни за грош даёте, тогда как у нас самих переизбытка в этом плане не наблюдается и не ожидается впредь? Ей все говорят убедительно, что подавать следует не от переизбытка, а отрывая от себя, и что они знают Сталинтину Владимировну уже несколько последних месяцев, причем с редкой стороны, как абсолютно непьющую профессиональную нищую, а она говорит «ну и что?» и бранит всех почём свет стоит. Правда, приличными словами бранит. Без вульгаризмов и ненормативной лексики.
Но суть не в этом, поэтому вернёмся к сути, то есть на круги своя, к своим, так сказать, овцам и баранам. Сталинтина Владимировна с праздником прохожих поздравляла не зря. И не для одних только денег. А потому, что завтра действительно должен был наступить большой и радостный праздник. Какой, она точно не знала. Забыла она впопыхах. То ли Рождество Христово, то ли Его Покров. Но точно праздник и точно божественный. И наверно, всё-таки Рождество, судя по всему. С ним она прохожих и поздравляла. И прохожие вспоминали, что да, действительно, на носу у них Божий праздник — и им становилось веселее жить и идти домой. Впрочем, Сталинтина Владимировна ошибалась. Праздник по церковному календарю был не завтра. Он был послезавтра. Что несущественно. И ещё лучше. Поскольку если б он был завтра, поздравленные ею граждане не успели бы сходить и купить себе чего-нибудь праздничного и вкусного к своему обеденному столу. А так они при желании могли легко это сделать. Сделать именно завтра. В выходной день недели. Потому что сегодня уже вечер, поздно и все устали до боли. А завтра день впереди, и магазины в полной мере открыты, и главное склад открыт, гостеприимно осуществляя торговлю оптом и в розницу, но по оптовым ценам — сниженным и предпраздничным донельзя. Понятно, что этот факт превращает вроде бы обыкновенное предприятие оптово-розничной торговли в место паломничества, в крупнейший центр удовлетворения насущных человеческих потребностей и желаний. Другими словами, склад служит обществу, делая его, так же как и его членов, лучше и добрее. Потому что когда граждане — члены общества — имеют удовлетворённые потребности, они автоматически становятся добрее и лучше — даже самые из них плохие и недобрые. А вместе с ними, значит, и общество в целом тоже становится добрым и хорошим. Или хотя бы приличным. Отсюда вывод — чем больше у общества складов, тем лучше для него, тем оно здоровее в экономическом смысле и в смысле нормализации морального духа. Это обязаны всесторонне понимать не только бизнесмены новой формации, но и политики верхнего эшелона власти.
А склад, он перед крупными праздниками неделями работает на ввоз и приём грузов. Со всех концов и уголков страны везут и везут в склад товары самого широкого потребления, в основном, конечно, водку, но везут и коньяк. И вина тоже везут из Крыма и из Молдавии, и из стран дальнего зарубежья — Испании и той же Франции, родины всех шато. И много чего ещё, много чего другого, съестного и прохладительного, везут крупными партиями вплоть до вагонных норм. Чтобы люди могли купить себе праздничную пищу и таким образом отличить праздники от будней. И всё это складывают в специальных складских помещениях, холодильных и самых обычных, складывают как можно плотнее и туже, ящик к ящику, контейнер к контейнеру, и несмотря на это, товары достигают потолков и практически подпирают их собой и своею тарой. Потолки же на складе высокие. Не менее пяти метров. Не то что в жилых многоэтажках. Где человеческой душе жить тесно, а после смерти — отлететь некуда. Чуть выше поднимешься — там другие люди живут, посторонние, и души у них свои, тоже посторонние. Так и приходится все девять дней под потолком низким болтаться — как люстра.
Здесь этой проблемы нет. Здесь напротив — доверху не так-то просто добраться. И для работы на большой высоте — чтобы ставить и чтобы снимать грузы — приходится пользоваться лестницами. Называемыми стремянками. Но и этого мало. Заполнив складское пространство снизу доверху и по площади — кроме узких проходов для грузчиков, — ящики и контейнеры вылезают в торговый зал и выстраиваются там у стен, портя собой интерьер и угрожая упасть на головы покупателей, не подозревающих ничего.
Накануне праздников и празднеств склад открывается раньше. Минимум, раньше на час. Он забит под завязку и ждёт, что его опустошат жители и гости города. И хозяева, проявляя характерные признаки нетерпения, ждут того же, чтоб получить доход, а, может быть, и сверхприбыль. Другими словами, они предполагают нажиться на факте церковного торжества и на человеческой радости, не имея ни к первому, ни ко второму никакого касательства. Что всё равно лучше и порядочнее, чем наживаться на горе, как это делают повсеместно врачи и работники сферы ритуальных услуг, сантехники и судьи, а также ростовщики и ломбардцы, и преступные похитители богатых наследников. Они вообще молодцы — хозяева и создатели данного склада на пустом месте. То есть нет, не на пустом и более того — на занятом. Здесь ещё прежней советской властью — на последнем её издыхании — хладокомбинат был выстроен под открытым небом, но в эксплуатацию не пущен и в строй не введён. А когда пришли иные времена, этот комбинат, к слову, из стекла и бетона, никому и на фиг не пригодился. Его хотел сначала Голливуд приобрести для декораций, чтоб фильмы свои голливудские типа «Терминатора-2» в них снимать, потом инвестор какой-то долго думал купить-не купить, а в результате не купил никто, и комбинат стал ветшать и разрушаться временем перемен и разворовываться. И разворовывался он до тех пор, пока местные городские власти решительно не продали его нынешним хозяевам — чуть ли не задаром и не насильно. Они их долго уговаривали и обещали всемерную помощь и поддержку — лишь бы только выручить за эти мёртвые производственные площади что-нибудь для себя. И хозяева, всё обсудив и взвесив, купили у властей комбинат на льготных условиях в кредит и переоборудовали его в склад для удовлетворения нужд большого города. Воздвигнув таким образом храм, можно сказать, торговли. То есть не для молящихся храм, а для торгующих. Которых никто отсюда не выгонит никогда. Ну, и для покупающих, само собой разумеется, тоже храм. Для всех, в общем, храм -независимо от вероисповедания и конфессии, включая и атеистов. Потому что если молятся не все, то продают и покупают все без исключения, так как без купли-продажи нет жизни на Земле. И каждый покупатель находит своего продавца, а продавец своего покупателя — как две половинки одного яблока. Единственное, что продать у нас трудно — это мозги. Каждый и любой дурак считает, что мозги у него и у самого есть и, значит, покупать их смысла не имеет. Объяснить же дураку, что он дурак — невозможно, ведь он свято верит, что создан по образу и подобию Божию. А поскольку дураков в нашей стране много — рынок мозгов узок и вял. Но склад здесь ни при чём. Склад мозгами не занимается. Разве что телячьими, импортными, которые деликатес.
И все работники склада сходятся рано-рано, сходятся на заре и ждут восхождения солнца. Одни просто ходят по складу, заложив за спину сильные руки, другие сидят в подсобке, играя в игру домино. А хозяева склада находятся на высоком посту в кабинетах и звонят из них по делам, и им тоже навстречу звонят. Они внутренне сомневаются, что горы еды и питья, лежащие пока мёртвым грузом, из склада сегодня исчезнут, и их в одночасье сожрут, в смысле, употребят в пищу для радости и увеселения душ. Уж слишком значительны залежи твёрдых и жидких продуктов, и аппетит народа для полного их потребления должен быть выше похвал, а он вызывает некоторые сомнения ввиду низкой покупательной способности.
Конечно, хозяева рисковали, вкладывая деньги в еду, и если они просчитались, их ждут долги и нужда — деньги-то ведь чужие, и взяты хозяевами склада у собственных, высших хозяев, и не просто так они взяты в долг, а по дружбе и под проценты. И то, и другое свято и, если что — требует жертв. Чаще всего — человеческих. Но если риск оправдается, хозяева обретут своё земное счастье и в жизни, и в труде на благо своего бизнеса. Об этом как раз обретении они убедительно просят всё могущего Бога, просят прямо из офиса, непосредственно с рабочих мест, оборудованных по последнему слову науки последними достижениями техники и в частности офисной мебелью европейского класса. Мысленно они обещают поставить Ему свечку, самую дорогую и толстую, и не одну, а много.
И постепенно вступает в свои права утро напряжённого дня, и день этот тоже вступает, обещая быть трудовым. На складе начинает твориться производственный страх и ужас — столпотворение и Содом, помноженный на Гоморру. Грузовики от магазинов и уличных предпринимателей едут само собой — в плановом порядке и сверх обыкновенных норм, автоколоннами. А кроме них, склад осаждают частные случайные лица, то есть, другими словами — люди. Некоторые на собственных автомобилях приезжают, скупая необходимое и для праздника, и на всю последующую неделю, чтобы уж заодно, некоторые — каковых больше — приходят пешком, семьями, или добираются до склада городским общественным транспортом — чтобы купить продукты и напитки как можно выгоднее и дешевле грибов. Они не считаются с расстоянием и затратами свободного времени, съезжаясь из всех районов города и из-за его окраин. Это легко объяснимо. Да, конечно, всё то, что есть в этом гигантском складе, есть и в магазинах, щедро разбросанных по всему городу и близко к жилищам граждан. Но в магазинах различных и многих — что-то в колбасном и в рыбном, что-то в хлебном и вином, а что-то вообще в овощном. На складе же есть всё. Всё буквально. И не просто в ассортименте, а по доступным ценам, которые ниже рыночных на пять тире двадцать процентов. Естественно, о сосредоточении всего, чего может желать душа, в одном месте на таких сверхвыгодных началах не стыдно мечтать и грезить. И стремиться к реализации своих грёз — естественно и не стыдно. Поэтому, видимо, все и устремились: бедные и богатые, больные и здоровые, семейные и одинокие, а также эллины и иудеи. Пришёл даже один рабочий с нового Игренского кладбища — наиболее отдалённого и непопулярного у населения и народа. И что загадочно — у всех этих устремившихся людей были совершенно разные гены и хромосомы, непохожие родители и более древние предки, а они не задумываясь пришли, как по команде или как близнецы-братья, на склад. С одними и теми же намерениями, в одно и то же фактически время суток, и детей своих с собой привели — наверно, чтобы и те ходили сюда, когда вырастут, по стопам своих матерей и отцов и в память об их жизнях.
И Басок с Шапеличем, Качуром и Колей давно бросили домино в подсобке россыпью и, забыв, кто из них козёл, работают в поте лица, как проклятые рабы. И я тоже с ними работаю, и тоже, конечно, как проклятый. Такие предпраздничные дни — это наши лучшие дни жизни. Мы от выработки, сдельно, получаем за свой ручной героический труд. От количества перенесённого и от общей суммы продаж. И после вчерашнего весёлого, богатого событиями вечера, сегодня мы работаем в поте лица не образно, а буквально. И, кажется, уже усомнились в том, что человек есть венец природы — ну не может венец так бурно и неудержимо потеть. Пот выступает, сочась, не только из наших лиц, но и из наших тел, и он стекает по ногам, задерживаясь в обуви, и не уходит в землю лишь из-за тяжелых ботинок, которые не промокают ни снаружи, ни изнутри. Ну и потому, что земля склада покрыта новым асфальтом, влагу сквозь себя не пропускающим. И Качур не устаёт повторять нам для бодрости, поднятия тонуса и трудового энтузиазма: «Работаем, пацаны, работаем. Это ж наши живые деньги, кровные и большие».
И мы работаем, служа передаточным звеном от чужого к чужому, от чужих грузов к чужим машинам и чужим людям. Грузчики — это и есть всего лишь передаточное звено. Как, впрочем, и все другие — передаточное звено от чего-то к чему-то или от кого-то к кому-то, надо только чтобы все поголовно получали за акт передачи положенные комиссионные и могли на них жить и существовать, сохраняя своё достоинство в приемлемых рамках. А отсюда недалеко и до счастья.
Мы подтаскиваем ящики в торговый зал и грузим их в грузовики, и помогаем допереть богатым покупателям и их бабам покупки до их богатых машин — за отдельную само собой плату. Так что Качур мог бы этих бодрящих фраз и не произносить всуе. Нас взбадривать лишними словами не надо. Мы, если надо, и без слов взбодримся до основания. Теми же чаевыми, допустим, или вином французским из неизбежно разрешённого боя. Или мечтами о предстоящем сегодня вечере свободы и завтрашнем дне отдыха, когда можно будет тратить заработанное легко и красиво, не оглядываясь и не останавливаясь на достигнутом, в смысле, потраченном.
В общем, столпотворение и потребительский ажиотаж в складе нам на руку и на пользу. И мы его используем по максимуму в пределах возможного. Невзирая на то, что народ всё валит и валит, прибывая — скапливаясь, шумя, путаясь под ногами, мешаясь и задавая вопросы. С ящиками ты или с тачкой, на которой полтонны нагружено какой-нибудь кока-колы — народу всё равно и едино. Он подходит вплотную и спрашивает о своём, и требует немедленного ответа. Народ, он всегда требует ответа немедленного. Хотя никогда его не получает.
Качур одному такому любознательному клиенту два ящика поставил на ногу стопкой и стал подробно на его вопрос отвечать — с чувством, с расстановкой и с толком, мол, какие баллончики могут быть в принципе и с каким ещё газом, здесь склад иного, мирного, профиля: продуктовый и винно-водочный, крупнейший в городе и в области, а может, крупней его нет во всей нашей бедной стране. Он рассказал также, что хозяева склада — акулы большого бизнеса — сознательно пошли на беспрецедентный размах, считая, что малым бизнесом можно удовлетворить малую экономическую нужду, а она у нас не малая, а большая. Этот любопытный клиент сначала терпел боль стоически и слушал речь Качура неторопливую, а потом как заорёт во весь голос:
— Нога, там моя нога!
Качур хотел сделать вид, конечно, что ничего не услышал, и объяснения продолжил подробно и в логическом развитии, но на крик сбежались друзья придавленного и сбежалась его подруга. То ли жена, то ли невеста, короче одним словом — женщина. Сбежались и суету подняли на недосягаемую высоту. Женщина кричит:
— Дудко, сними, пожалуйста, ящики. Ради всего святого!
А Дудко кричит:
— Макашутин, помоги мне, будь добр.
И придавленный кричит «помогите». Громче и убедительнее остальных кричит, благим, как говорится, матом — даром, что вежливо и уважительно. А Качур на всех на них с интересом смотрит. И с интересом слушает их хаотичные крики об оказании срочной неотложной помощи пострадавшему. Стоя над схваткой хилых интеллигентов с ящиками большого веса. Это вместо того, чтобы работать, добывать свой нелёгкий хлеб с маслом, сервисно обслуживая официантку из кафе с красивым названьем «У Кафки». Она приехала за ходовым и прочим товаром, так как хозяйка кафе уже, как и прежде, гуляет, сожители и совладельцы — в смысле, компаньоны хозяйки — тоже гуляют, и больше прислать совершенно некого. Повар — дурак и тупица, у бармена — язва какой-то кишки, напарница не пользуется доверием в коллективе, таща всё, что плохо лежит, и то, что лежит хорошо — тоже успешно таща. Причём у своих. Хозяйка её обязательно вычислит, поймает и схватит за руку. Но пока этого не произошло, официантка сама напарницу потихоньку воспитывает — смоченным полотенцем, завязанным в морской узел. А сейчас она стоит, вздымая большую грудь, у машины и ждет, когда же эти бездельники, коих везде подавляющее большинство, загрузят её в соответствии с предварительным заказом, хозяйкой заранее оплаченным. И думает она о них, о бездельниках, не по-женски плохо и нецензурно. Матом она о них думает, грубым, но справедливым. Да и не только о них. И не только сейчас. Она вообще так думает и мыслит, в такой языковой форме, постоянно. Что в трудную минуту жизни лишает её возможности обратиться к Господу Богу с молитвой. Но вслух своих мыслей и дум официантка не высказывает. Практически никогда. На работе ей не положено высказываться по должности, а она почти всегда на работе. Или дома — спит, набираясь во сне сил. Да, вот во сне она иногда высказывает свои мысли. И именно в матерном выражении высказывает. Поэтому хорошо, что она уже месяца три одинокая — бой фрэнд её последний услышал, как она во сне сказала «пошёл ты на», воспользовался этим счастливым случаем и пошёл навсегда. А то бы он ночью пугался, и дочь, если б она у неё была, тоже пугалась. Как пугаются муж Алины и их внутрибрачные дети, когда она задерживается допоздна и не приходит вовремя к ужину вследствие неизвестных тайных причин. Понятно, что они за неё пугаются и волнуются, и совершенно не знают, что думать, когда она всё-таки приходит, счастливая, но довольная и, естественно, страшно усталая. Так что они просто ей верят. Как верят жене и матери, хранительнице очага. И ещё они верят в то, что всё будет прекрасно. Если не сию минуту, то в конце концов обязательно.
Но сегодня довольны и счастливы любимые дети Алины. И муж её Пётр Исидорович (тоже любимый) счастлив. И мать мужа Анна Васильевна Костюченко — особенно, а также и в частности счастлива. И довольны они и счастливы, потому что Алина весь день с ними, и никуда уходить не стремится, и потому что собрались они в кои-то веки всей семьёй и вышли в люди. Для того лишь собрались и вышли, чтобы сходить на склад и совершить там предпраздничные покупки. Но этого тоже для счастья с лихвой достаточно, так как это сплачивает, укрепляя семейные узы, и воздействует на внутреннее состояние семьи самым положительным, живительным образом.
К сожалению, Алина со своей семьёй встретила здесь, на складе, Печёнкина. Который тоже был с семьёй. Только со своей. Случайно встретила. Не сговариваясь. Да и почему «к сожалению»? Без всякого сожаления она Печёнкина встретила. Скорее, наоборот. Их семьи между собой знакомы ещё слава Богу не были, и эта встреча прошла для них безнаказанно и никак не повлияла на их предпраздничное приподнятое настроение. Ни в лучшую сторону не повлияла, ни в худшую. А Алина и Печёнкин повели себя так, будто видят друг друга впервые, и никак не обозначили своих тайных интимных связей на стороне:
— Простите, молодой человек, — спросила Алина у Печёнкина, стоявшего в сыро-колбасном отделе к кассе прямо перед ней самой, — эта колбаса несолёная?
— Несолёная, — ответил Печёнкин. — Хотя я колбасу не ем.
— А как же без колбасы? — спросила тогда Алина. И Печёнкин ей ответил:
— Привычка, — и сказал: — Это без хлеба обойтись в жизни нельзя, без картошки тоже нельзя, а без колбасы можно довольно безболезненно обойтись. Тем более питаться колбасой в чистом виде — вредно для здоровья, и у меня, например, от неё давление.
Им, наверно, занятно было поговорить на глазах у всех многочисленных присутствующих, на виду у своих жен, мужей, детей и прочих ближайших родственников. Чтобы щекотнуть по нервам себе и друг другу ходя по краю и ощутить, что они знают то, чего не знает никто иной. Кроме, конечно, официантки, обслуживавшей их накануне и запомнившей им заказ одного голого кофе надолго и, может быть, на всю жизнь. Но официантка в данный момент пребывала вне поля их зрения и их не видела. Она видела их чуть раньше — они мелькнули поочерёдно, пройдя мимо неё и мимо её микрогрузовика вглубь склада, в основной торгово-закупочный зал. Она ещё подумала «вчера эти вроде вместе в кафе сидеть приходили, вдвоём, кофе голый заказав, а сюда, на склад, раздельно пришли и в каких-то иных семейных составах». Она обязательно додумала бы эту странность и разобралась бы в несоответствии и его истоках, и возможно, сделала б вывод, что все люди не братья, а бляди, и верить нельзя никому — ни мужчинам, ни женщинам, — но тут грузчики наконец начали догружать крытый кузов её «ГАЗели», и официантка всё своё внимание переключила и сосредоточила на них и на их производственных действиях — она обязана была поставить на товаротранспортной накладной свою личную подпись и не ошибиться, чтоб не платить, покрывая убытки из своего кармана. Это главное — она должна была не дать себя обмануть ни на копейку. Грузчики на то и существуют, чтобы бесцеремонно кого-то обманывать. Экспедиторов, хозяев, поставщиков, покупателей и друг друга. Но она им не экспедитор и не хозяин, и вообще она им никто — её вокруг пальца на мякине не проведёшь. Она и сама любого провести способна, будучи человеком на своём месте. А они пускай интеллигентов делят на ноль и приводят к общему знаменателю. Их тут сегодня не меньше чем в академии наук или в опере собралось и сбежалось. В надежде сэкономить средства, которых у них не ахти, и при этом устроить себе полноценный праздник, чтоб как у людей, не хуже. К слову, почему официантка недолюбливала интеллигентов — не очень понятно, в сущности, интеллигенты — это такие же люди, как и мы. Ну, или почти такие.
Басок загрузил три ящика симферопольской водки в кузов, прочел по слогам значок на груди официантки и спросил:
— А если я не хочу?
— Не хочешь — тогда не спрашивай, — ответила официантка. — И не заговаривай зубы. Я, между прочим, считаю.
— Считать не вредно для ума, — сказал Басок и уступил мне рабочее место.
— Заигрываешь, — сказал я, — к девушке при исполнении? — и поставил в кузов сок манго.
— Нет, — сказал Басок отвернувшись, чтобы сейчас же уйти, поскольку он и сам был при исполнении не меньше девушки.
— Что вы делаете сегодня вечером? — спросил я не у Баска.
— Работаю, — ответила девушка. — До утра.
Я хотел спросить было «кем?», но не спросил. Подумал — вдруг она оскорбится в лучших и иных чувствах. Или, быть может, обидится. А у меня не было желания никого сейчас обижать. Иногда я такому желанию бываю подвержен. Но нечасто и не на погрузке в родном складе. Поэтому я сказал официантке:
— Желаю успехов в труде до скончания ваших дней.
Официантка промолчала. Она считала ящики в столбик. А в ящиках она отрешённо считала все до одной бутылки — следя за степенью их наполнения, за грузчиками в целом и в частности за Шапеличем. От Шапелича всего можно ожидать неожиданно. И она ожидала. Интуитивным своим чутьём. Но он её интуицию и её чутьё вероломно обманул — уйдя как пришёл и откуда пришёл. По-честному. И я ушёл в склад — трудиться, перемещая грузы. И, занимаясь этим полезным перемещением, я говорил себе шёпотом: «Ну надо же, какая грудь у девушки гиперболическая. Я думал, такая бывает лишь в американском кино в результате комбинированных съёмок и компьютерной графики». И девушка как будто меня услышала, и её ко мне потянуло сквозь складское пространство. Она преодолела расстояние, нас разделявшее, подошла и сказала:
— Эй, вы догрузите меня или нет?
— А где Шапелич с Баском? — сказал я. — Они ж вроде тебя заканчивали.
Девушка с грудью сказала:
— Они лелеют надежду, что я им буду платить. Но я платить им не буду. Я сяду и буду сидеть, — так мне сказала девушка, всколыхнув во мне грудью чувства. Ещё сильнее, чем прежде.
И я сказал:
— Вы думаете, что раз мы грузчики, у нас нет ни стыда, ни чести, ни совести, а есть одна сила в мышцах?
— У нас есть всё, — сказал проходивший мимо Коля из-под мешка с чипсами.
— Да, — сказал я и сказал: — Наш хозяин Пётр Леонтьич Гойняк учит — что у нас тут не столько склад, сколько храм.
— Чего? — сказала девушка.
— Торговли, — сказал я. — Богиня была такая. — И: — Пойдёмте, — сказал, — я вас догружу бескорыстно, подчиняясь служебному долгу и рвению.
И ещё я сказал, что никогда не встречал девушек с такой фантастической грудью в реальной прозаической жизни. Девушке моё восхищенье понравилось от начала до конца, и я предложил ей познакомиться как можно ближе. Вернее, так близко как только позволят её прекрасная грудь, её семейное положение и воспитание.
— Инна, — сказала девушка. — Официантка кафе «У Кафки».
— Олег, — сказал я. — Грузчик, но это ничего не значит.
Инна, очевидно, поняла меня не вполне и спросила, что я имею под этим спорным утверждением в виду, поскольку она считает, что грузчик и значит — грузчик, мол, так её учили в школе, и жизнь её учила тому же. А я сказал, что под личиной рядового грузчика оптового склада во мне теплятся доброе сердце и недюжинный ум с незаконченным высшим образованием.
— Что такое «недюжинный»? — спросила официантка Инна.
— Как бы тебе объяснить? — сказал я и сказал: — А что такое Кафка?
— Кафка — это просто так, — сказала Инна. — Это Катя Фёдорова, Кирилл и Андрей. Сокращение такое, название кафе составляющее из имён его соучредителей.
— А, тогда ясно, — сказал я и, приобняв торс Инны рукой, посмотрел ей в глаза. Посмотрел и сказал: — И бёдра у тебя красивые, как у статуи.
Инна проследила за моей рукой взглядом и сказала:
— Это не бёдра, это рёбра.
— Бёдра, если они настоящие — понятие широкое, - сказал я и стал догружать в «ГАЗель» всё, что недогрузили мои друзья и коллеги.
И они видели это и были мной крайне недовольны, так как и правда справедливо рассчитывали на дополнительный заработок. Но они молча, в себе были недовольны, все, включая и Колю с чипсами, а Качур молчать не стал. Он сказал во всеуслышание:
— За такое убивать надо. Если подумать.
— А ты не думай, — сказал я. — Заболеешь сотрясением мозга.
На что Миша сказал:
— Кого я вижу!
Он узнал нас — меня и Колю, и Качура, и Шапелича — и сказал жене Вете и красавице-дочери, что мы же у них вчера были. С дружественным визитом и с виски. Виски он, конечно, презирает, но всё равно это что-нибудь, да значит. Вета и дочь поприветствовали нас взмахами рук.
— Нет тут у них виски, — сказал родственник Миши, который тоже находился здесь, с ними заодно. И вообще, похоже, что на склад сегодня пришли все, кроме лежачих без сознания и при смерти. Весь городской народ пришёл на склад в полном своём личном составе, и вместе с народом пришли разные сопровождающие его лица. Даже одинокие неприкаянные скучающие люди пришли, у которых то ли вовсе не бывает праздников, то ли всегда праздник, даже Сталинтина Владимировна пришла, живя поблизости, в двух небольших шагах. И не просто она пришла, без дела и умысла, а как все пришла — совершать покупки. То есть покупки совершали здесь, конечно, не все. Те же скучающие неприкаянные люди ничего не совершали — ни здесь, ни где-то ещё. Они жили без свершений, бродя и слоняясь по просторам своей жизни вне определённых задач и целей, у них образовалось в запасе много пустого сорного времени, которое им нужно было как-нибудь потратить и изжить. И сюда, на склад, они пришли, так как куда-то же все равно идти не миновать, уже потому не миновать, что сидеть или лежать не вставая и не ходя — невозможно. Да и нормального человека каждое утро должно тянуть из дома. В общество ему подобных людей. Или хотя бы на улицу. Исчезновение этой тяги чревато хандрой, депрессиями, а то и чем-нибудь в психическом смысле похуже.
Так вот, к этой категории бесцельных людей Сталинтина Владимировна не принадлежала. Она уже купила себе всего понемножку — вина бутылку двести пятьдесят миллилитров и турецких маслин без косточек самую маленькую банку, и сыра сто граммов колбасного. Она всегда покупала себе продукты в небольших минимальных количествах. Четвертушку батона, стакан молока. Крупы или макарон — не больше полукилограмма. Думала «зачем я буду покупать больше, деньги тратить, раз я могу умереть от старости в любой прекрасный день»? Но сейчас Сталинтина Владимировна думала о другом — не купить ли чего ещё, экзотического вкуса и качества. Деньги у неё были, несмотря на регулярные разбойные ограбления со стороны уличной неорганизованной преступности. И она хотела частично их в разумных пределах истратить. «А операция, — думала, — не волк и никуда от меня не сбежит при жизни, хотя всё-таки жаль, что я сюда за покупками праздничными пришла, а не укреплять материальное благосостояние, и что мою работу нельзя открыто совместить с покупками. Тут много мелочи можно было бы сегодня собрать Христа ради и как угодно». И думая так, она услышала голос человека, беспощадно её вчера ограбившего в центре города, и она пошла на голос сквозь шум других голосов и вцепилась ногтями в силуэт, от которого вчерашний голос исходил.
— Держите его крепко, — сказала Сталинтина Владимировна. — Он меня обобрал, последние операционные деньги отняв.
Качур без усилий оторвал и отодвинул от себя старуху, и сказал:
— С ума сошла бабка бледная. От вида безобразного изобилия и специальных сниженных цен. — И сказал: — Я здесь работаю, состоя на хорошем счету как отличник боевой и политической подготовки.
Он узнал, наверно, вчерашнюю нищую и вспомнил, как вынимал из неё горстями мелкие монеты, но в своём преступлении против личности этой старухи не сознался перед людьми и Богом, не раскаялся и ничем не выдал себя. А у неё никаких неоспоримых доказательств на руках не было, и она отстала от Качура скрепя сердце поневоле. Были бы у неё доказательства или свидетели, она могла бы его посадить в места лишения свободы, чтоб справедливость временно восторжествовала — пусть не вообще и не везде, а лишь в отдельно взятом случае. Что тоже немаловажно. Поскольку из отдельных случаев складываются их суммы, и тогда общая картина справедливости изменяется и становится не такой пессимистической и не такой безрадостной. Но свидетелей практически не было. Точнее, они были — и некоторые из тех, кто Качуру вчера в ночном баре попался, и другие, потерпевшие от него ранее в других тёмных местах областного центра. Но они были врозь, а не вместе, каждый по своей надобности и со сдвигом во времени. А когда свидетели врозь, и ничего общего их не связывает в кулак — общая идея, допустим, или общее дело, — от них толку нет. А если есть, то противоположного, вредного направления. Так что ничего не оставалось Сталинтине Владимировне, как молча возобновить хождение по переполненному залу склада с намерением купить ещё что-нибудь из праздничных продуктов к завтрашнему светлому дню. Правда, она не отказала себе в удовольствии выкрикнуть на весь склад, что мол, пищу для желудков покупаете, а о пище для души не думаете и не беспокоитесь нимало. Но тот же Качур ответил ей от имени всех «на себя посмотри, старая», и Сталинтина Владимировна замолчала, оставив свои обвинения при себе неисторгнутыми. Чтобы не вышло какой-нибудь неприятности. И постаралась смешаться с другими людьми и не привлекать к себе лишнего повышенного внимания и лучше никакого внимания к себе не привлекать, так как без внимания жить спокойнее. А на неё уже многие косо смотрели — и Миша с женой, и его битый родственник в том числе. Тот, что не нашёл днём с огнём в складе виски и поэтому купил много сортов водки, еле в джип уместившейся — Миша его убедил, сказав, что русский человек, даже если он не русский, а новый русский, за свои деньги должен пить только и непременно водку — финскую, шведскую, любую. Но — водку. А никакое не виски. И что виски — это баловство и американская провокация. И профанация. Особенно если оно выпивается с содовой водой вперемешку. Мишин родственник провокаций (как и профанаций) опасался и не любил, тем более американских провокаций-профанаций. А выпить, будучи патриотом, в общем, любил. Если, конечно, не в ущерб бизнесу и прочим делам, если в выходные и праздничные дни или ночи, неважно. И с новорусской народной мудростью «Сделал деньги — гуляй, Вася» был он не согласен полностью. Хотя и ему в ущерб бизнесу выпивать приходилось нередко. Но исключительно в интересах дела. А среди этнических, чистокровных русских он в списках не значился. Ни среди новых, ни среди старых. Он значился украинцем. И Миша, бывая подшофе и не в духе одновременно, брал, бывало, его за грудки и угрожал: «Ну, погодите! — угрожал. — Россия вспрянет ото сна!» А родственник ему возражал: «Конечно вспрянет. Вспрянет — и попросит опохмелиться». За эти злые слова, преодолевая силу исконно родственных чувств, Миша родственника избивал — на межнациональной почве кулаками.
Но завтра всеобщий — и русский, и украинский народный праздник. И праздник по религиозным канонам и понятиям большой. А каждый большой праздник — это не только большой праздник, это ещё и большие заботы. И если любишь праздновать, не избежать тебе и предпраздничных забот. Которые многие склонны считать приятными и радостными пустыми хлопотами. Но в действительности заботы не могут радовать, они могут заботить. Они для этого предназначены. И того же Макашутина не могло не заботить, каким образом они будут отмечать праздник. В условиях отсутствия газировки. Они уже склонились к покупке шампанского в качестве газирующего элемента. И с расходами дополнительными смирились окончательно, потому как было у них, ради чего смириться. Теперь оставалось только осуществить свои коллективные намерения и воплотить их в существующую реальность. Внутри этой толпы, воплощавшей свои похожие намерения, тоже предпраздничные, но — свои, гораздо более обширные. И уйти отсюда поскорее необходимость назрела. А то внутри толпы и Макашутина, и Дудко, и особенно Адика Петрутя начинало мутить. Прямо до тошноты. Они из-за этого ни в церковь по большим храмовым праздникам не ходили, ни на стадион, ни в театр. Они как люди думающие и пьющие толпу не воспринимали и отторгали всеми фибрами своих более или менее утончённых душ. Потому что она их томила и утомляла, потому что, в ней, в толпе, пребывая, постоянно приходилось с нею бороться и её преодолевать. Опять же занятия для интеллигентных людей не слишком подходящие, свойственные и желательные. Не говоря о том, что под напором толпы можно нечаянно упасть, и тогда она обязательно на упавшего наступит. А толпа, имеющая благую цель обзавестись товарами первой необходимости, в смысле, жратвой, вообще действовала на представителей мыслящей интеллигенции подобно воде, действующей на погружённые в неё тела. То есть она их с силой, как из пушки, выталкивала. По их собственному желанию, правда. Они сами жаждали из такой толпы вытолкнуться, если уж попадали в неё ненароком, если не получалось у них удержаться на расстоянии. Да и любая толпа действовала на макашутиных и иже с ними отвратительно. Отвращала она их от себя. В ней же ни поговорить об умном и вечном, ни пообщаться на литературные темы, ни мыслям предаться в их беге. В ней — в толпе, значит, — можно только покалечиться физически и душевно. А когда толпа накапливается в закрытом помещении, то есть в ограниченном объеме, это и вовсе становится опасным для жизни, и в такого рода толпе легко даже бесславно погибнуть, будучи размазанным по стенам. Или по тем же ящикам, стоящим вдоль периметра склада шпалерами — как часовые родины. А заразиться в толпе заразными заболеваниями — совсем уж проще простого, когда все дышат друг другу в лицо и из носа в нос, в упор.
Кстати, уйти отсюда созрели уже не только Макашутин со товарищи. Семьи Алины и Печёнкина помышляли о том же самом. Дети в особенности устали толкаться среди людей и их шагающих ног и дышать тяжёлым густым воздухом, выдыхаемым многими сотнями лёгких. Потому что отдельные человеческие выдохи взмывали вверх, смешивались в воздушном пространстве склада, и оседали сквозь низшие воздушные слои на пол и на панели стен, и конденсировались в мелкие капли влаги, которые снова испарялись и которыми снова дышала толпа.
Алине и Печёнкину тоже надоело толкаться и ощущать на себе толчки, и таскать тяжелеющие от покупок сумки, и стоять в очередях к кассам, и вдыхать то, что выдохнули другие. Но они чувствовали, что находятся рядом, невдалеке, и от этого им становилось тепло и трепетно, и намного лучше, чем друг от друга вдали и порознь. Нет, они понимали, что такая близость неполна и обманчива, и при огромном скоплении народа никакая любовь — если говорить обо всём её объёме и спектре — невозможна. Скопление народа к любви не располагает и условий для неё благоприятных не создаёт. Оно, наоборот, их разрушает. Потому что скопления людей склонны к разрушениям, а любовь — может происходить и процветать в ограниченном пространстве, в тесноте и духоте, но она не нуждается в посторонних наблюдателях. Наблюдатели ей не то чтобы претят, а не нужны. И, пожалуй, противопоказаны в любых видах.
И значит, люди, отоварившись по своим силам и способностям и устав от пребывания в тисках толпы, уходили один за другим, на их место приезжали и приходили другие люди, и они тоже теснясь скупали еду, тратили не жалея деньги и время, толпились какие-то десятки минут интенсивно и целенаправленно или просто толпились от безделья и тоже рано или поздно уходили кто куда, каждый по своему собственному назначению.
И уже казалось, что так будет продолжаться всегда и вечно, и конца этому круговороту людей на складе не будет ни сегодня, ни вообще. И больше всех нам так казалось, мы-то пребывали внутри склада и толпы безвыходно и постоянно. И в какой-то момент сильно начали уставать не так физически и морально, как духовно. И Коля, увидев нашу усталость или почувствовав свою собственную, даже работу оставил самовольно в разгаре и задумался о чём-то сугубо личном и сокровенном. А выйдя из состояния задумчивости, сказал: «Как вспомню, что Гоголя Николая Васильевича Колькой звали — так прямо нехорошо делается». И ещё он сказал:
— Настало время народных забав и шуток, щас передохнём весело, — и исчез куда-то, видимо, за пределы территории. И буквально минут через пять после его исчезновения выбежал на эстакаду сам хозяин склада, тот, который Гойняк, и стал вещать истошным голосом в мегафон, что прошу соблюдать полное олимпийское спокойствие и порядок и в строгом соответствии с вышеупомянутым соблюдением прошу покинуть помещение склада на безопасное расстояние сто метров, поскольку в нём, может быть, заложена бомба разрушительной силы.
Ну, как и следовало ожидать, всю застигнутую этим сообщением толпу сдуло с территории в течение трёх минут. Многие, кто расплатиться не успел, покупки свои бросили не сходя с места на пол: с неоплаченными покупками не выпускали никого, а жизнь всё-таки дороже покупок. А ещё через десять минут приехали откуда ни возьмись минёры с милицией, безошибочно повязали Колю и уехали, сказав «продолжайте работать в установленном порядке, никакой бомбы тут нет и быть не может, это мальчик пошутил на год лишения свободы условно плюс штраф».
И инцидент моментально исчерпался и забылся, и смена одних людей другими очень быстро, хотя и постепенно, восстановилась за счёт естественной прибыли всё новых и новых покупателей из города с его окрестностями и благодаря их такой же естественной убыли. И в этой смене людей прошёл в конце концов день, и быстро наступил вечер. И с ним — окончанье работы. И толпа, слава Богу, схлынула и рассосалась бесследно, не причинив ни себе, ни людям, ни складским производственным площадям каких-либо видимых повреждений. И склад опустел. Практически подчистую. И по его пыльным гулким помещениям пролетел ветер. И все разошлись. Многие разошлись, чтобы праздновать, а, например, Адик Петруть разошёлся (по ложной тревоге, Колей поднятой), чтобы праздновать и вместе с тем лечить свою пострадавшую ногу. Но что интересно, все покупатели, придя домой и выложив покупки из сумок, и рассмотрев их и потрогав руками, с удовлетворением подумали: «Вот на что мы не зря и не напрасно потратили полдня своей единственной быстротекущей жизни!» — и пожалели об утраченном времени. Хотя и поздно. Те же, кто ничего не покупал, и тратил заведомо не деньги, а время, о нём не пожалели, они, наоборот, порадовались, что смогли как-то от него отделаться и что его, бесполезного времени, осталось у них на много часов меньше, чем было.
А склад заперли. На все замки. И сигнализацию чувствительную, от японского производителя, включили. На всякий, как говорится, пожарный случай. И она будет включённой до тех пор, пока завершится ещё не начавшийся праздник, и люди его отпразднуют, поглотив приобретённые в складе продукты, и заживут опять — заживут так, как жили прежде, но может быть, что и лучше, потому что обогатившиеся хозяева склада станут за них молиться.
РАССКАЗЫ
Тяжёлым тупым предметом
Они пришли и повели нас. В квартиру напротив. То ли в качестве свидетелей, то ли в роли понятых. А возможно, и по другим каким-то милицейским соображениям.
Привели в кухню. Жена впереди, я — за ней.
— Смотрите, — сказали они.
Мы посмотрели. Ничего такого, из ряда вон. Грязь, паутина, объедки, лужица спекшейся крови и несколько бурых следов ног. Видно, кто-то неуклюжий влез в эту лужицу ботинками, когда она была еще свежей, и натоптал по всему полу.
— Грохнули кого-нибудь? — спросил я.
— В реанимации, — сказал человек в бесцветном плаще на меху и добавил: — Пока.
— Кто? — спросил я.
— Павел Скороходов из сто тридцатой.
— А его — кто?
— Пятаков, жилец квартиры. Тяжелым тупым предметом.
Это было с неделю назад. А сегодня — обычный день. Самый что ни на есть. Я работаю. Кошка Нюська умывается так, будто зализывает раны. Время идет незаметно, скользя от двери к окну, и там, за ним, исчезая. Оно проходит мимо в шаге от моего столика и даже тени не отбрасывает. Не знаю, как кого, а меня время, не отбрасывающее тени, всегда раздражает. Своим пренебрежением к свету. Свет должен падать правильно на всё, и всё обязано вести себя в свете соответствующим образом. Время в том числе. Потому что свет, а не время — это основа основ. Я, работая акварелью по глине, знаю это лучше других. Глина не терпит неверного или слабого освещения. Сильного она тоже не терпит. А пишу я на глине всевозможные миниатюры и образки. Сейчас их много продают на улицах, рынках, в киосках и художественных салонах. Монастыри, церквушки, лики. Дева Мария, Бог-Сын, Бог-Отец, митрополит Криворожский и Нижнеднепровский Алексей. Размером с ладонь и меньше. Они на дереве бывают выполнены, на картоне и на глине. На глине — это мои. Я сдаю их мелким оптом дилеру, что меня кормит, поит и одевает. И не меня одного. Так как у меня есть семья. Дочь среднего школьного возраста и жена бальзаковского. Правда, жена тоже работает, уставая как собака и прилично зарабатывая.
Еще я делаю кувшинчики в украинском народном стиле. Называется «глэчыкы». Не для хозяйственных нужд и потреб, а для общей красоты и оживления домашнего интерьера. Они маленькие такие, мои глэчыкы, все разных цветов и покрыты глазурью. Их хорошо на полку поставить или на телевизор. Но сейчас я делаю не их. Сейчас жены и дочери нет дома. Они ушли утром. Жена — на работу, дочь — в школу. И я поставил свой раскладной столик посреди комнаты. Так, чтобы свет падал из окна слева и чуть сзади. Это лучший вариант для зимы. А впрочем, и для лета тоже.
Справа на столике у меня краски, кисти, вода. Слева — готовые после обжига формы. Одна форма стоит в штативе, и я пишу на ней Преображенский собор.
Кстати, я никогда не гоню халтуру и на обороте формы ставлю свою фамилию. На всех копиях. Хотя я не копии делаю. Если говорить строго. Я пишу одно и то же десять, скажем, или пятнадцать раз. Только освещение меняю. То есть я задумываю какое-либо освещение, представляю его всесторонне у себя в голове и переношу на глину. А собор пишу тот же самый. Или там церквушку, иконку, лик.
Иногда я пишу с репродукций и открыток, иногда из головы, иногда с натуры. Сейчас я пишу шпиль звонницы Преображенского собора в осеннем пейзаже. Освещение — сквозь тучи.
И тут звонят в дверь.
А я во время работы не открываю никому. Чтобы не мешали. Поскольку план у меня напряженный, а времени рабочего мало. С полвосьмого до двух днём и с одиннадцати до часу вечером. А в час я ложусь спать.
Ну и: звонок звонит — я не открываю.
Он — звонит, я — не открываю.
А он — звонит.
— Да что же это такое? — негодую я. — Кому там неймётся?
Я открываю и вижу — кому. На пороге стоят:
Милиция в количестве трёх человек. Планшеты, погоны, кокарды, плащ;
Техник-смотритель ЖЭУ. Фуфайка, норковая шапка, кефир;
А также Владимировна в галошах и женщина с вялым лицом.
— Почему не открываете? — спрашивает милиция.
— Я работаю, — отвечаю я.
— Работают на фабриках и заводах, — говорит милиция.
— Слушаю, — говорю я.
— Лучше бы вы слушали, — говорит милиция, — когда напротив дерутся. Итак, что вы слышали?
— Ничего.
— Так и запишем.
Милиция поворачивается, толпится и, вздымая пыль грубой форменной обувью, уходит. И обещает вернуться, когда ей будет надо. Пыль колышется, втягиваясь с лестничной клетки в квартиру, а техник-смотритель ЖЭУ просит электрофонарь.
Оказывается, она здесь отдельно от милиции, по случайному совпадению с ней во времени.
— Показатели счётчика, — говорит, — пришла зафиксировать. Последние. — И говорит: — Тут у вас напротив квартиру обменивают.
Я даю ей фонарь.
Она перекладывает кефир из правой руки в левую. Берёт фонарь.
— Как обменивают? — говорит вялая женщина. — Напротив муж мой живёт бывший. Он всю жизнь на мартене проработал, а хозяйке вперёд уплатил. Она же сестра ему родная. Хозяйка.
— А мне-то что? — говорит техник. — По документам эту квартиру обменивают. На равноценную в том же районе. Дом восемь на дом шесть.
Она ставит кефир на площадку. Светит фонарём в окошко счётчика. Возвращает фонарь мне горящей лампой вперёд.
Я её тушу, сдвигая поводок выключателя ногтем.
Техник записывает показания счётчика на тыльной стороне ладони синей шариковой ручкой, берёт кефир и уходит.
Женщина с вялым лицом напрягается и, вдохнув полную грудь всё ещё не осевшей пыли, начинает причитать.
— Он всю жизнь на мартене, — гундосо воет она, — а они подонки и алкоголики. Посадили его. Ой, помогите мне и спасите.
Техник-смотритель останавливается на лестнице и слушает её, прижав кефир к фуфайке предплечьем правой руки.
Я и Владимировна тоже слушаем, а моя кошка пугается ее стенаний и забивается под диван. В самый недосягаемый угол.
— Я могу вам помочь? — спрашиваю я.
Она смолкает на миг, смотрит этот миг на меня и снова кричит подвывая:
— Ой, люди, спасите.
— Не кричите, — говорю я. — Кошка пугается.
Это действует.
Она умолкает на полуслове. Идет к двери напротив. Отпирает её и за нею скрывается. Потом выглядывает в щель и говорит:
— Ковёр вынесли. Телевизор на запчасти разобрали и продали. Пиджак сняли. Теперь посадили его, а он на мартене всю жизнь — пять грамот, три благодарности.
Её лицо становится вялым вдвойне, и она захлопывает дверь.
Остаётся Владимировна, всё это время молчавшая. Она говорит:
— Я Галя. Ты меня не бойся.
Ей семьдесят семь лет, у неё маразм и катаракта.
— Я не боюсь, — говорю я.
А она говорит:
— Надо с дедом идти в банк. Деньги получать в сумме. А платочек украли. Ворвались, — говорит, — и украли платочек. Сволочи.
Владимировна обращает слепые глаза к свету. Свет исходит от кухонного окна. Она смотрит поверх меня на этот свет, смотрит внимательно — как будто к нему принюхивается. Наконец, говорит:
— Тут у меня поднизом много всего надето. — Она трясёт над галошами подолом не то платья, не то халата. — А платочек украли.
Я вспоминаю, что ни дочь, ни жена никогда в жизни не носили платков.
— У меня нет платка, — говорю я.
— А ты поищи, — говорит Владимировна. — В шкафах.
— У меня только моя шапка, — говорю я. — Не дам же я вам свою шапку.
— А я туда — и назад.
Но я твёрдо решаю шапку сохранить. Шапка у меня одна. Поэтому я стою с фонарём и молчу.
Свет из кухонного окна падает прямо на засаленные волосы Владимировны. По волосам, оскальзываясь, ползёт муравей.
— А сын мой, — говорит Владимировна, — сгорел на работе. Его привезли, я плакала-плакала, а что толку? В семьдесят втором году и сгорел.
Я молчу. Муравей ползёт. Он рыжий и трудолюбивый.
— И дочка ко мне вчера приходила, — говорит Владимировна. — Есть наготовила. Борща и картошки. А борщ мясной.
Никакого сына у Владимировны нет и не было, а дочка ходит редко. Она старая и больная, и говорит: «Какой смысл к ним ходить? Приготовишь, а дед Витя всё в сто тридцатую отдаст. Чтоб выпить ему налили. Они ему сто грамм нальют, а обед сожрут без остатка».
И она права. Деду Вите — это муж Владимировны — много не надо. Он пять лет живёт после инсульта. Ясно, что много ему не выпить.
— Нету у меня платка, — говорю я Владимировне. — Нету.
Владимировна пялится на свет, пронизывающий её, и уходить не собирается. Она всегда получает то, что хочет, так как побирается по соседям давно и опыт имеет.
В основном она рассказывает, что её обокрали и забрали все деньги. Или что почтальон присваивает их с Витей пенсию. И все знают, давая ей, что она врёт и что это муж послал её за деньгами на вино (одеколон, лосьон, борный спирт). Дед Витя пьет всё. Не много — из-за перенесённого инсульта, — но всё. Один раз даже жидкости против колорадского жука выпил. Той, что три капли на ведро воды. А он — стопку в чистом виде. Паша из сто тридцатой и Лёнька Гастроном ему налили. Выпить нечего было у них, а тут жидкость эта подвернулась. И они её деду Вите дали на пробу. Мол, если помрёт — не жалко. Всё равно паралитик. Он выпил, а они, на него посмотрев, пить не стали. Потому что не захмелел дед Витя от этой пресловутой жидкости.
Так что, когда Владимировна просит денег — это понятно. Но сейчас она просит платочек. У меня платочка нет. И ничего похожего тоже нет. По крайней мере, мне так кажется.
Владимировне кажется иначе.
Она проворно наклоняет своё окостенелое тело. Её невидящие глаза утыкаются в пол и его ощупывают.
— А это? — говорит она.
— Это кошкина пелёнка, — говорю я.
— Ага.
Владимировна разворачивает пелёнку и неожиданно сильным движением рвёт её. На две равные части.
— Мне целой, — говорит, — много, а половины в самый раз хватит.
Кошка, увидев, что у неё отняли пелёнку, обижается, потом мирится с тем, что вернули половину и ложится на неё.
Все более или менее довольны, а я больше всех. Потому что могу снова сесть работать. И я сажусь дописывать шпиль. Солнце просачивается сквозь тучи, как через лейку старого душа — редкими хилыми струями. Шпиль освещаем ими, но не блестит. Он отливает желтизной. Фон — багрец и золото. Только не лесов, а парка. В багрец и золото одет городской парк имени Т.Г. Шевченко. Бывший Потёмкинский. Преображенский собор у нас — бывший музей атеизма, прокуратура — бывший суд, проспект Карла Маркса — бывший Екатерининский, а я — бывший инженер-строитель. Всё бывшее. И все.
Зато теперь я занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью творческого характера. Зарабатываю хорошо. Сам себе полный хозяин. И не прораб, а как ни крути, художник. Глину где брать — знаю. Жидкое стекло — тоже. Слава Богу — тринадцать лет на стройках социализма без отрыва. Я и печку себе соорудил муфельную. Для обжига изделий в домашних условиях. Печка получилась — зверь. Включаю её — у всего подъезда телевизоры и холодильники глохнут. Ну, а краски и кисти в наше время вообще не проблема. Были бы деньги.
Так что работа у меня — все завидуют. Если б ещё не мешали — как сегодня — не жизнь была бы, а праздник труда и отдыха.
А сегодня я, конечно, не успел ничего.
Сейчас придёт дочь. С минуты на минуту. А при ком-то я работать не могу. Глэчыкы ещё на круге вертеть — это куда ни шло. А писать — не умею.
Вот поворот ключа в тесной замочной скважине. Вернулась из школы дочь.
— Привет.
Она греет и пьёт чай с булкой, и садится готовить уроки. Рисует лес и в нём — двоих. Мужчину и женщину. И на снегу — их следы, уходящие в перспективу. Это задали им по рисованию. Нам таких заданий не задавали. Во всяком случае, в шестом классе.
И она рисует заданное: лес, женщину, мужчину, следы. Ей это раз плюнуть. Она образа пишет, и берут их не хуже моих. А тут — следы.
Я продолжаю своё, пока она поглощена рисованием и сидит у себя в углу ко мне спиной. Я пишу тот же Преображенский собор, изобретая способы его освещения. Собор зимой. Собор на восходе. Собор при полной луне.
Кошка лежит на оставшейся половине пелёнки. Стережёт, чтоб не отняли и её.
После рисования дочь делает другие уроки. Потом ложится читать. Она лежит на животе, согнув ноги в коленях. Ноги торчат, покачиваясь, пятками в потолок.
Я, раз такое дело, навёрстываю дневную норму.
Потом дочь берёт книгу и уходит с ней прямо и направо.
Жаль. Я тоже не прочь был туда сходить. Теперь долго придется быть не прочь. Она ушла с Конан Дойлом.
Ещё она ходит туда с электронной игрой «Ну, погоди!», где волк ловит корзиной яйца. Яйца катятся по лоткам из-под несущихся (в смысле, несущих яйца) кур. Всё быстрее и быстрее. У меня больше ста штук не ловится никогда. Её личный рекорд — девятьсот. Но сегодня у неё Конан Дойл, том первый, рассказы о Шерлоке Холмсе. А игра стоит на книжной полке, выполняя функцию обыкновенных часов. 18.01… 18.02… 18.03… 18.04… «Быстро всё же бежит это время, — приходит на ум мне свежайшая мысль. — Поэтому оно, небось, и тени не отбрасывает — из-за скорости, и любое освещение ему безразлично и им игнорируемо». 18.05… 18.06…
Пришла с работы жена.
— Опять кошка испуганная?
— Где? Да. Опять.
— Разбери сумку.
Разобрал.
Курица, яблоки, хлеб, пирожные.
Кошка жене радуется. Лижет ей ноги. Руки. Запрыгивает на плечо и оттуда лижет лицо.
Жена добреет. Оттаивает. И ложится на диван.
— Устала, Нюсь, как собака, — жалуется жена кошке.
Кошка устраивается у жены под мышкой.
Я складываю свой рабочий столик и убираю его в чулан.
С шумом потока воды, продолжая читать Конан Дойла, появляется дочь — «привет».
— Привет, — говорит жена. — Что у тебя в школе?
— А, — говорит дочь и машет рукой, переворачивая заодно страницу.
— Не читай в потёмках, — говорит жена, — испортишь себе глаза.
Потом мы садимся ужинать. Кошка, жена и я. Дочь говорит «не хочу», берёт пирожное и уходит из кухни жуя.
— Испортишь себе желудок, — говорит вдогонку жена.
— А, — отвечает дочь, переворачивая страницу.
После ужина снова приходит милиция. На сей раз в количестве двух человек. Один — в бесцветном плаще. Видимо, он следователь. За спиной у милиции маячит оплывший силуэт бывшей жены бывшего мартеновца, ныне подследственного.
— Я следователь, — говорит тот из двух, что в плаще. — Что вы слышали в ночь совершения преступления?
— Мы ничего не слышали в ночь совершения преступления, — говорит жена. — В ночь совершения преступления мы спали.
Милиция профессионально не верит. У неё возникают сомнения в искренности показаний жены.
— Неужели ничего?
— Ничего.
— Странно.
Бывшая жена арестованного вертится тут же. Среди нас. И среди милиции. Мельтешит и шныряет. То здесь, то там.
— Крепко спите, — говорит милиция.
— Не жалуемся, — говорим мы.
А бывшая жена Пятакова, чуть не убившего Пашу, говорит:
— Он там, в больнице — Пашка — такую ряху наел, прямо интеллигент. А что в реанимации полежал два дня, ему только на пользу. Хоть протрезвел.
Милиция вносит сказанное нами в протокол и устраняет бывшую жену Пятакова, всю жизнь проработавшего на мартене и нанесшего удар тяжелым тупым предметом сковородой П. Скороходову из сто тридцатой квартиры.
— Не мешайте следствию, — говорит милиция и опять обращается к нам: — Так значит, спали? — и ухмыляется в тени абажура.
Жена говорит:
— Да, спали. Мы после половой невоздержанности всегда спим хорошо и крепко. — И говорит: — Хотите, проведём следственный эксперимент?
— Не надо, — говорит милиция. А жена говорит:
— Занесите причину крепкого сна в протокол. Иначе я его не подпишу.
Тогда милиция говорит:
— Ладно, и без того всё достоверно. Двери обшиты дерматином обе. Под дерматином вата слоем три сантиметра. Плюс дерево. Плюс расстояние. Достоверно.
— Нет, занесите, — говорит жена. — Я настаиваю.
Милиция встаёт, говоря:
— Мы к вам как к сознательным гражданам, а вы к нам — без уважения. А мы, между тем, на службе и более того — при исполнении.
— До свидания, — говорит жена милиции. — Если вы нам понадобитесь, мы вызовем вас по телефону 02.
А дочери она говорит:
— Запри, а то кошка пугается.
Дочь с Конан Дойлом в руках встаёт и, не отрывая глаз от страницы, запирает дверь. «Это мы вас вызовем», — слышу я из-за двери и обнаруживаю бывшую жену посаженного Пятакова. Она заняла место милиции. В тени жёлтого абажура. Её лицо в этой тени окончательно увядает и, кажется, осыпается.
— Представляете? — говорит она из тени. — Я тут ночую — после инцидента, — чтоб имущество, которое ему при разводе отошло, сберечь и сохранить. Они же и так всё вынесли. Телевизор на запчасти разобрали, ковёр продали, пиджак сняли. А он всю жизнь на мартене проработал. Потому что дурак.
Кошка прячется жене под юбку. Она целый день сегодня пугается чужих людей, чужих голосов, чужих запахов.
— Представляете? — опять говорит бывшая жена своего бывшего мужа. — Слышу я ночью какие-то шорохи и шаги на лоджии. Подхожу, а там этот стоит, друг Пашки. Гастроном. Пьяница, вор и подонок. Я говорю — э, тебе чего, а он говорит — хочу на кухне уборку сделать влажную, а то мы там в последний раз насорили. Я как заору! Вот так. А он перелез через перила и прыгнул с балкона. В окно, которое из подъезда наружу выходит.
Потом она говорит что-то ещё и просит подтвердить на суде, что он всю жизнь на мартене, а они подонки. Ковёр вынесли и пиджак, и телевизор. И скажите, говорит, что он, когда выпьет — доверчивый, а также дурак.
Я обвожу взглядом комнату.
Жена спит, сидя на стуле.
Кошка жмётся к её ногам, совершенно ошалевшая, и шерсть на ней стоит и топорщится.
Дочь, дочитав Конан Дойла, смотрит на чужую неуместную женщину, не понимая, откуда она взялась у нас в квартире, что здесь делает и о чём говорит.
Я же — о чём она говорит, понимаю, а вот зачем — хоть умри.
— Я могу вам чем-то помочь? — спрашиваю я, останавливая её монолог.
— Вы на суде скажите им. Чтоб спасти его. И имущество. А то он всю жизнь на мартене.
— Хорошо, скажу, — обещаю я и выхожу в прихожую. Как бы провожая гостью.
— Так я пойду, — говорит она, — а вы скажите.
— Посидели бы ещё, — говорю я и отпираю замок.
— А Пашка, — говорит она на прощание, — вот такую харю отъел на казённых харчах. И всего за неделю.
Я захлопываю дверь и возвращаюсь в комнату.
За окном ревёт, прогревая на морозе мотор, мотоцикл и поют пьяные весёлые люди. Поют, естественно, «Ой, мороз, мороз, не морозь меня».
— Может, сегодня праздник? — думаю я. — Церковный какой-нибудь. А я работал. А может, просто легко у людей на сердце и прекрасно.
Я бужу жену. Дочери говорю: «Ложись спать», — и стелю постели. Жена и дочь ложатся и засыпают. Я иду на кухню. Замешиваю глину. Запускаю круг и верчу глэчыкы. Делаю это автоматически. Они вылетают из-под моих пальцев один за другим. Десятками. Я верчу их на круге почти что до часу ночи, верчу и ставлю сушить.
В час я ложусь. И Паша приходит в час.
Он в больничном сизом халате и в чёрной шапке-ушанке на белой в бинтах голове.
— Слышь, — говорит Паша шёпотом, — дай чего-нибудь почитать. Конан Дойла или Толстого. Льва.
— Почитать?
— Почитать. В больнице ни библиотеки, ни газет, ни хрена.
— Паша, ты пьян?
— Нет, у меня сотрясение мозга.
— Тогда — на.
Я даю ему Шерлока Холмса, и он говорит «спасибо».
— Интересно, — думаю я, снова укладываясь в постель, — посадят Пятакова за сотрясение Пашиных мозгов или дадут условно?
Исчезновение кресла и прочего
Кресло-кровать стояло у письменного стола. Оно было тяжелое, громоздкое и у него отвалились колеса. Днем, сидя за столом в этом неудобном кресле, Ксения делала уроки. А чтобы разложить кресло на ночь и лечь на его просиженную бугристую поверхность, Сиверцеву приходилось волоком отворачивать эту зеленую махину от стола и ставить по диагонали комнаты. Изголовьем — к балкону, изножьем — к двери. На сквозняке. Балконная дверь всегда бывала открыта, так как в квартире установили чугунные батареи парового отопления. Давно установили. Сразу после получения Зиной квартиры. Потому что радиаторы, которые поставили домостроители, не нагревали воздух в помещении выше пятнадцати градусов Цельсия.
И Сиверцев с Зиной еще до вселения пригласили частнопрактикующих слесарей-сантехников, и те сменили не греющие радиаторы на чугунные батареи. И, видно, чтобы взять как можно больше денег, порекомендовали поставить несколько лишних секций. Теперь эти лишние секции накалялись, и в квартире, если не открывать балконную дверь, дышать было совершенно нечем. Воздух быстро становился тяжелым, приобретал специфический душный запах — как в котельной, подоконники трескались и осыпались, а обои коробились, отклеиваясь от стен.
С этими батареями с самого начала все было не слава Богу. В одной батарее не оказалось нижней заглушки. Поэтому когда сантехники их приварили к трубам и спустились в подвал — чтобы открыть для проверки воду, кипяток под напором хлынул в комнату. В комнате был только Сиверцев. И он бешено стучал по трубе разводным ключом, надеясь что сантехники в подвале услышат его стук и закроют воду, но его стука они не услышали. Потому что они слышали много разных стуков, доносящихся со всех этажей и из всех подъездов. Большинство новоселов делало в своих квартирах капремонт перед тем, как начать в них жить.
И пока они поднялись на седьмой этаж без лифта, пока всё увидели, пока вернулись обратно в подвал и перекрыли кипяток — квартиру залило по щиколотку. И нижнюю квартиру залило, несмотря на то, что Сиверцев и сантехники черпали кипяток всем подряд и выливали его ведрами в унитаз. Сиверцев тогда вернулся домой с обожженными ступнями, весь мокрый. Но умудрился как-то не простудиться и не заболеть. А ступни со временем у него тоже зажили. Как на собаке…
Зина спала в другой, своей, комнате на старом, ободранном кошкой диване. Этот диван был куплен еще в эпоху дефицита отцом Сиверцева им в подарок. По удостоверению инвалида войны, за восемьдесят рублей вне очереди. Тогда этот диван стал началом начал их совместной жизни. Сейчас Зина спала на нем самостоятельно. В гордом и неприступном одиночестве. А дочь Зины Ксения спала в комнате с Сиверцевым. Тоже на кресле-кровати, но чешского производства и поэтому более удобном. Оно стояло всегда в разложенном виде, и на нем всегда лежала круглая подушка с наволочкой в цветочек. Остальную постель Ксения по утрам складывала в мебельную стенку. У нее было там специальное постельное отделение. Сиверцев свою постель относил в шкаф. К Зине. А вечером он вынимал ее из шкафа и нес по коридору в общую комнату стелить. И никогда не говорил Зине, что постель его уже испачкалась и надо бы ее постирать. Сама же Зина замечала это очень редко. Наверно, по своей врожденной рассеянности. Так что Сиверцев почти всегда спал на грязной серой постели. И вытирался несвежим полотенцем. О полотенце тоже он никогда ничего не говорил. Бывало, Зина таки видела, что полотенце требует стирки, брала его и бросала в ведро с грязным бельем, а другое, чистое полотенце дать Сиверцеву забывала. И он выходил из ванной не вытираясь, в каплях воды на лице и на руках и ждал, пока они обсохнут. Но и этого Зина обычно не замечала, и в конце концов Сиверцеву приходилось просить у нее полотенце открытым текстом. Зина давала ему полотенце молча. Старое зеленое полотенце, бывшее когда-то в прошлом махровым. Этим полотенцем можно было еще как-то вытирать руки и лицо, но чтобы вытереть себя после душа или ванны, его площади сильно не хватало. Полотенце промокало уже на верхней половине туловища. Второе полотенце, которое Зина выдавала Сиверцеву, было таким же. Или, может быть, чуть лучше, чуть новее.
Конечно, настолько безразличное отношение огорчало и обижало Сиверцева, унижая его чувства и человеческое достоинство. Но он не обижался. Он переживал это в себе равнодушно, без эмоций, с неменяющимся выражением лица. И по его голосу ничего нельзя было определить. Голос у Сиверцева всегда звучал ровно, без всплесков и напряженных модуляций. Объяснить такое восприятие жизни Сиверцевым можно только многолетней привычкой и тем, что он примирился со всем этим окончательно и навсегда. Примирился с тем, что для себя он здесь есть, а для остальных его как бы и нет. И вел себя в условиях своей жизни соответственно обстоятельствам.
Он никогда, кстати, не снимал телефонную трубку, если в доме звонил телефон. И никому из своих знакомых не давал номер своего телефона. Он всем говорил, что телефона у него, к сожалению, нет и позвонить ему можно только на работу, а больше никуда нельзя. Говорил, несмотря на то, что деньги на установку этого самого телефона заработал именно он своим трудом и способностями и если бы он их не заработал, телефона в квартире не было бы еще не год и не пять лет, его не было бы гораздо дольше. Всем в доме это было понятно и Сиверцеву, конечно, понятно и тем не менее, не учитывалось им и в расчет не бралось. Потому что для Сиверцева было естественно работать и зарабатывать, чтобы Зина тратила заработанное по своему усмотрению на общесемейные нужды. Наличие нужд она сама и определяла. Сиверцев в этом никогда никакого участия не принимал. И она решила, что телефон в квартире необходим, и установила его. Без Сиверцева, который совершенно не был уверен, что в доме без этой штуки обойтись нельзя. Матери он мог с работы позвонить, а больше и звонить-то было никому не нужно. Зато его никто не беспокоил по работе в нерабочее время. Что можно считать скорее плюсом, чем минусом. Беспокойства ему и на работе хватало.
Но один раз трубку Сиверцев все же снял. Так получилось, что Зина куда-то ушла по своим делам, дочь ее Ксения сидела в ванной, а телефон звонил и звонил. Как заводной сумасшедший. Сначала звонков пять, потом десять, потом пятнадцать. И Сиверцев подумал, что это звонит зачем-нибудь Зина, точно знающая, что и он, и Ксения находятся дома. И он подумал, что, возможно, у нее что-нибудь срочное, важное и неотложное, подумал, что, может быть, ей что-то необходимо немедленно сообщить, раз она так настойчиво и непрерывно звонит — и он снял трубку, и сказал «алло». В трубке сказали «наверно, я не туда попала», но все-таки спросили: «Ксению можно?» Сиверцев объяснил, что Ксения дома, но подойти к телефону сможет минут через тридцать, не раньше. И когда Ксения вышла из ванной и ей позвонили снова, Сиверцев слышал, как она сказала вскользь: «Да так, мамин знакомый».
И из этих слов Ксении было совершенно ясно, что никем другим Сиверцева она не считает, хотя двенадцать из всех ее пятнадцати лет он был ей фактическим отцом. Правда, с перерывами. В перерывах, возможно, все дело. По чьей вине и инициативе эти перерывы случались, сегодня неважно и не имеет значения. Важно, что свою решающую разрушительную роль эти перерывы сыграли. Как в отношениях с Ксенией, так и в его жизни с Зиной. Не всегда же для Зины он был только знакомым, как это стало теперь. А теперь — конечно. Теперь знакомый. И больше никто.
В подтверждение этому Сиверцев вспомнил, что и Зина, и Ксения уже несколько лет никуда не ходили с ним, с Сиверцевым, вместе. Даже когда они ездили к старой матери Сиверцева в гости, все устраивалось как-то так, что ехать приходилось врозь. Наверно, они стеснялись ходить с ним рядом по улице. И еще вспомнил Сиверцев, что когда он приходил с работы, Зина всегда спрашивала у него: «Ты голоден?» Спрашивала, зная, что с восьми утра он ничего не ел, а утром выпил одну чашку кофе и съел два небольших бутерброда. Сиверцев не обедал в общепите (об этом Зина тоже всегда знала). Во-первых, потому не обедал, что столовскую пищу его организм воспринимал с большим трудом, а во-вторых, потому, что в городе было полным-полно гепатита и туберкулеза, и он не хотел заразиться этими тяжелыми болезнями через плохо вымытую общепитовскую посуду. Так что, идя с работы, на оптовом рынке Сиверцев покупал себе «Сникерс» или «Марс» и съедал его по пути к остановке автобуса. А иногда — изредка — он покупал у старух фисташки в маленьком кульке из старой газеты. Он с детства любил жареные фисташки, возможно, потому любил, что в его детстве они были большой экзотикой и чуть ли не роскошью. Он только не любил их есть на ходу, потому что в одной руке обычно нес портфель, в другой надо было держать кулек, а как действовать дальше — непонятно. Можно было, конечно, поставить кулек в карман и извлекать фисташки оттуда свободной рукой, но фисташки легко могли испачкать пиджак или пальто своим растительным жиром. В общем, обычно Сиверцев съедал на улице что-нибудь штучное и подавлял чувство голода, скопившееся в нем за день. И он всегда на Зинин вопрос отвечал одно и то же: «Нет, не голоден». И выпивал ближе к вечеру стакан чая с куском хлеба, поджаренного в тостере до хруста.
Почему Сиверцев жил так, а не иначе, он и сам не мог сформулировать. Наверно, если бы к нему стали так относиться в один прекрасный день, он бы этого не потерпел и не позволил. Но никакого такого дня в своей жизни он не помнил. Наоборот, все у него было постепенно и незаметно. Если, конечно, особенно не присматриваться. Он — не присматривался. Вначале — потому что присамтриваться было не к чему — все у них с Зиной шло даже не хорошо, а прекрасно — потом — потому что Сиверцев не придавал чему-то значения и был занят работой, потом — старался не присматриваться, хотя и чувствовал временами что-то угрожающе непонятное. А когда он все понял и присматриваться необходимость отпала — поскольку все стало ясно и понятно, и видно — изменить или исправить ничего уже было нельзя — если родные люди становятся чужими, они становятся чужими навсегда. И он не стал дергаться и страдать, а продолжал жить так, как жилось. Жилось же Сиверцеву по-разному, контрастно, можно сказать, ему жилось. На работе он был всем и все с ним считались, и делали то, что он говорил и рекомендовал, а дома он был никем. И если совсем точно, то дома он был не только никем, дома он был не дома. Хотя и не в гостях. Свои отношения с Зиной они официально никогда не оформляли, и по документам проживал Сиверцев в квартире своей матери. Теперь, когда отношений с Зиной вообще не было и не предвиделось, он мог бы уйти и жить у матери, по месту прописки, реально. Но его никто не выгонял от Зины, и он не уходил. То есть иногда уходил. Уходил ухаживать за матерью, если она заболевала, уходил, чтобы убрать ее квартиру и купить продукты. Уходил, чтобы просто побыть там — с матерью или одному в своей комнате. И если он оставался там на ночь, Зина не спрашивала у него, где он был и почему не ночевал дома. Один раз Сиверцев ушел и не возвращался три примерно недели. И ни разу Зина ему не позвонила. Наверно, она считала и была уверена, что если б с Сиверцевым что-то случилось, ей как-нибудь сообщили бы.
И тогда Сиверцев решил больше к Зине не возвращаться. За ненадобностью. И чтобы не мешать ей с Ксенией жить их собственной жизнью. Кроме того, глупо было прийти как ни в чем не бывало и никак не объяснить свое длительное отсутствие, а объяснить его он не мог, поскольку объяснять было тоже глупо, так как совершенно нечего. Да и не хотел он никому и ничего объяснять. Не считал нужным. И наверное, он бы не вернулся. Если бы не получил зарплату. Зарплата у Сиверцева была по нынешним временам высокая. А если сравнивать с большинством других людей, то очень высокая — соответствующая квалификации. И он ходил с этой своей высокой зарплатой в кармане и не знал, что с нею делать. А его через каждые тридцать метров встречали какие-то люди и спрашивали: «Который час? Который час? Который час?» Сиверцев, не глядя на свои часы, всем им отвечал: «Без десяти одиннадцать. Без десяти одиннадцать. Без десяти одиннадцать». Отвечал так, пока не спохватился, что без десяти одиннадцать было минут пятнадцать или двадцать назад. И это бесцельное хождение по улице с зарплатой в кармане, и этот интерес прохожих к точному времени мучили его, не давая сосредоточиться на чем-нибудь ином, более для него важном и значительном.
Дома Сиверцев отложил обычные полторы сотни матери — на оплату квартиры, на лекарства и прочее, решил, что купит себе на лето светлые брюки, потому что у него есть новые светлые туфли, которым уже три года и которые не с чем носить. Оставил сколько-то себе на карманные и другие повседневные расходы, сколько-то на покупку еды. А куда истратить оставшиеся, основные деньги, Сиверцев так и не придумал. И он, помаявшись, отнес их Зине и положил, как всегда это делал, на телевизор, а Зина, как всегда, сделала вид, что этого не заметила. Мало ли что там, на телевизоре, может лежать. И Сиверцев опять остался и не ушел, и опять стал жить там, где жить привык. И жил несмотря ни на что. И ни на что не обращая внимания. То есть он видел и слышал все, что происходит вокруг, но внимания на это не обращал никакого. Даже когда на дне рождения Ксении ее подруга пожаловалась, что родители у нее разводятся, и она остается с матерью — вдвоем. А Ксения ее успокоила: «Ну и что, мы тоже с мамой вдвоем — и все классненько.» Именно так она сказала — классненько. И Сиверцев сначала пропустил ее слова мимо ушей, а потом подумал, что, может быть, она просто его не видит. И считает, что его здесь нет ни сейчас, ни вообще. Хотя сделать к столу французский луковый салат Ксения его просила, и он стоял и плакал над ним, потому что резать лук нужно было очень и очень мелко, иначе салат получался совсем не таким, как нужно. Нет, дело, конечно, не в салате, а в том, что раз Ксения просила его этот салат сделать к своему празднику, значит, она должна была его видеть и различать. По логике вещей. Но с логикой вещей и с вещами в последнее время тоже стало происходить что-то непонятное и необъяснимое. Вещи стали куда-то исчезать. Не все и не сразу. Все вещи и не могли исчезнуть, так как основной своею частью хранились на материнской квартире — там места свободного было больше и в шкафах, и на вешалке, и вообще. Исчезала то одна незначительная вещь, то другая, то третья. Каждый день Сиверцев не мог что-нибудь найти. Какой-нибудь обиходный пустяк. Футболку, носки, авторучку, крем для бритья, блокнот. Каждое утро он чего-нибудь недосчитывался. Какой-либо мелочи вроде чашки или ремня, или галстука. И все это даже не казалось Сиверцеву странным. Почему не казалось, неясно, но не казалось. И не очень раздражало. Потому что подолгу Сиверцев ничего не искал и не задумывался, как и куда мог исчезнуть тот или иной неодушевленный предмет. Он обнаруживал новую пропажу, констатировал, что пропажа случилась, относил ее на счет беспорядка и забывал о ней не сходя с места. В смысле, забывал о пропавшей вещи. Как будто у него ее никогда не было. Он ведь вообще к вещам был равнодушен. Вещи интересовали Сиверцева лишь постольку, поскольку ему приходилось жить среди них и ими в процессе жизни пользоваться. Как и всем другим людям приходилось. Но, видимо, если бы пришлось жить без вещей, Сиверцев не слишком бы расстроился и испугался. Потому он и не придавал большого значения этим ежедневным исчезновениям. Даже когда на месте его спального кресла — у письменного стола — обнаружился модный вращающийся стул современной конструкции, Сиверцев всего лишь подумал «на этом стуле Ксении будет удобно делать уроки». А о том, куда могло деваться из квартиры такое огромное и тяжелое сооружение, как его кресло — он не подумал. И о том, что без кресла ему не на чем будет спать, тоже Сиверцев не подумал. Он не боялся никаких неудобств. Как не боялся с некоторых пор вообще ничего. Если не считать одного момента. Наступления этого момента он стал в последнее время бояться.
С некоторых пор Сиверцева по-настоящему волновало, что в конце концов наступит день, когда исчезнет из стаканчика в ванной его зубная щетка. Этого он действительно боялся. Поскольку Сиверцев без многого мог жить и обходиться, практически без всего мог жить и обходиться Сиверцев, но без зубной щетки он жить и обходиться не мог даже при большом желании.
Которого, кстати сказать, у него и не было.
Картотека
Пётр Сергеевич опустил ноги на пол, вены вздулись и проступили сквозь кожу. И стали похожи на синие деревья кронами вниз.
Пётр Сергеевич поднял своё тело над постелью, тело хрустнуло и осело.
Пётр Сергеевич задержался на диване в сидячем положении и посидел, приводя себя в утреннее состояние духа. Осознавая готовность к проживанию нового грядущего дня. Наконец он встал во весь свой, когда-то немалый рост, прочистил горло, подошёл к телефону и начал вертеть диск. Диск на каждом повороте взвизгивал.
— Майор Макуха у телефона, — сказал Пётр Сергеевич в трубку.
— Да пошёл ты, — ответила трубка и задумалась. Видимо, подбирая соответствующий случаю адрес.
Майор Макуха нажал пальцем на рычаг и сказал: «Опять этот пидор драматический дежурит». А сказав так, он оделся во всё шерстяное и тёплое, чтоб радикулит свой холодом лишний раз не провоцировать, и вышел из дому в туман осеннего утра. И пошёл по улице в тумане и в нужном направлении. На ходу Майор Макуха думал, что времена не выбирают, в них живут. И живут так, чтобы не было мучительно и стыдно. Даже на вынужденной пенсии. По долгу службы, в общем, живут.
Майор Макуха после того, как его не заслуженно, а благодаря сволочам-сослуживцам и распаду нерушимого Союза советских республик, ушли на вечный отдых, продолжал жить напряжённо, в привычном трудовом ритме. Потому что он был не согласен и не сломлен. На отдыхе он занимался своим любимым делом жизни так же, как занимался им всегда. В тех же пределах и рамках. И то, что обстоятельства изменившись, стали менее благоприятными, и выполнение служебных функций сильно усложнилось, майора Макуху не смущало и не останавливало ни на йоту. «А кто сказал, что жить и работать надо легко и беспрепятственно?», — спрашивал он у себя строго. И сам себе не задумываясь отвечал: «Никто не сказал. И не зря».
С прошлого раза дверь знакомого парадного изменила свой облик, можно сказать, на противоположный, то есть до полной неузнаваемости. Майор Макуха подумал сначала, что ошибся адресом. Но он быстро установил, что не ошибся. Визуально осмотревшись вокруг, установил. Адрес был правильный и тот самый. Просто на входе в подъезд смонтировали железную дверь и заперли её на замок-автомат. И повесили так называемый домофон. Для полноты общей картины.
— От кого прячетесь? — сказал вслух, но в никуда Майор Макуха.
Он набрал на кнопках «23» — номер квартиры — и подождал разумный отрезок времени. Ответа не последовало. Тогда майор добавил спереди шестёрку — номер этажа.
— Да, — сказал, потрещав, динамик домофона.
— Майор Макуха у подъезда, — сказал майор Макуха.
— Опять, — сказал динамик.
— Ты меня лучше впусти по-хорошему, — сказал майор Макуха. — А то сам знаешь. Органы тех лет шутить не любят.
Дверь щёлкнула замком и качнулась на петлях — наружу. Майор Макуха потянул скользкую, набалдашником, ручку и вошёл внутрь. «Смотри ты. Всегда было насрано, а как от народа отгородились, так сразу и установилась чистота не хуже чем в аптеке № 1 города Москвы». Майор Макуха давно подозревал, что вся грязь и весь беспорядок в стране происходят от народа. Не было б народа, и страна могла иметь совсем иной внешний вид. Но стран без народов не бывает. И это непреложный факт и закон бытия, поскольку таков миропорядок вещей под солнцем и луной.
Майор Макуха заперся в лифте и запустил его на подъём — изнутри лифт блестел, сверкал и зеркально отсвечивал панелями. Плюс ко всему он благоухал. Его явно взбрызнули чем-то освежающим. И взбрызнули недавно. «Осквернитель воздуха с яблочным ароматом», — без труда определил майор Макуха, так как дома, в туалете, он пользовался точно таким же. Ему бывшие сослуживцы и соратники на день рождения подарок сделали. Правда, недавно их подарок закончился. И слава богу. Потому что майор Макуха этот запах терпеть не мог и органически не переваривал.
Как только майор Макуха ступил на лестничную площадку, дверь квартиры № 23 отворилась. Наверно, в ней услышали, что на этаже остановился лифт.
Майор Макуха перешагнул через порог. Его, как обычно, никто не встретил.
Майор Макуха вытер подошвы обуви. Тщательно и не торопясь. Потом снял по очереди ботинки и в носках пошёл вглубь жилплощади.
В третьей комнате, слева, за круглым столом, сидел человек. Он раскрывал ножом грецкие орехи и ел их, двигая ртом во все стороны одновременно.
— Ну, чего тебе, дед? — сказал он и сглотнул пережёванное.
— Чего-чего, — сказал майор Макуха. — Ничего.
— Тогда выпей за моё здоровье и за мой счёт.
Человек нырнул куда-то рукой и извлёк флакон, похожий на графин, но квадратный.
Майор Макуха выпил рюмку. Вспомнил, что натощак пить вредно для желудка. Сказал:
— Дрянь заморская. Хуже одеколона. — И сказал: — Шлёпнуть бы тебя за употребление таких чужеродных напитков.
— Виски, — сказал хозяин квартиры. — Тридцать три доллара литр. Это тебе к сведению между прочим.
— Я и говорю шлёпнуть, — сказал майор Макуха.
Хозяину не понравилось устойчивое и преступное желание майора. Но он почти промолчал. Буркнул «тоже мне шлёпальщик нашёлся, пердун старой закалки», и всё. И опять стал жевать свои орехи, богатые растительным белком. Он жевал их и ждал. Чтобы майор Макуха сказал, зачем пришёл и побеспокоил в выходной от службы день.
И майор Макуха, проявляя выдержку, ждал. Чтобы у него поинтересовались целью визита, а узнав о ней, ответили, что всё будет исполнено, и об исполнении доложено. И ждал этого майор Макуха излишне долго — пока понял, что ничего у него не спросят и ничего ему не ответят. В последнее время они стали себе это позволять. Демонстрируя неуважение и превосходство. Служебное и возрастное. Конечно, теперь этот хрен газированный тоже по званию майор — что само по себе и печально, и смешно. Но Макуха-то помнит его дураком-лейтенантом, с соплями при любой погоде. И как уму-разуму его безрезультатно учил, не говоря об азах профессии — помнит он великолепно. Ну, и вся подноготная этого нынешнего тоже майора пенсионеру Макухе в красках и тонах известна. Включая и то, что неизвестно никому. Если б не эта всесторонняя известность, кто бы вообще с ним сегодня по-человечески разговаривал? У майора Макухи никаких иллюзий на этот счёт не имелось. У него их вообще не имелось. Ни на какой счёт.
— Дверь противотанковую установили, — сказал для разгону беседы майор Макуха. — Опасаетесь непосредственного контакта с великим русским народом?
Хозяин взял нож и с треском раскрыл следующий орех, и сказал после его раскрытия:
— Чего надо-то? Коротко и ясно.
— Мне — ничего не надо. Если лично, — сказал майор Макуха. — Стране надо. И государству вашему. Де-мо-кра-тическому. Оно меня ещё вспомнит по заслугам посмертно. Когда спохватившись поймёт.
Он достал из бокового кармана бумажку, сложенную вчетверо. Развернул.
— Колесник Виктор Викторович. В недавнем прошлом стропальщик центрального материального склада. Завод имени К. Либкнехта. Две квартиры в центре. «Мазда» и «Джип», записанный на мать, плюс «Таврия» для отца жены. Скупает цветной металл. Нелегально. Ворованный. О чём свидетельствуют горы металлолома в его квартире по адресу Малиновая, д. 220, кв. 7. Остальные известные сведения прилагаются.
— Ну, так чего тебе ещё? Всё ж понятно. Не досье, а полная чаша.
— Для настоящего дела, для дела с большой буквы, этого мало, потому что недостаточно.
— Вообще-то экономическими преступниками мы вплотную не занимаемся, — сказал хозяин. — Только крупными и очень крупными. Ну да ладно.
Он потянулся через стол и вынул бумажку у майора Макухи из рук.
— Через недельку позвонишь.
Майор Макуха встал и вышел в коридор. Обулся. Сказал:
— Не прощаюсь, — и закрыл за собой дверь.
Спустился пешком. Медленно. Спускаться по лестнице такого образцово-показательного подъезда — доставляло глубокое удовлетворение. Майор обожал чистоту и порядок. Порядок он обожал больше. Но за его неимением довольствовался и чистотой. Хотя бы для содержания нервной системы в устойчивом состоянии. Потому что без устойчивой нервной системы работать, учитывая вредную специфику, затруднительно. Тем более успешно и тем более сейчас, в наше нелёгкое время. Когда нет у майора ни начальников, ни помощников, ни подчинённых. Даже элементарных технических средств и удостоверения личности у него нет. «Зато личность есть, — говорит сам себе майор Макуха. — Что не так уж и мало — при неимении всего прочего». Этими словами он себя бодрит и успокаивает, и не даёт себе распустить нюни. Ведь если себя не успокаивать, на одном неприкрытом энтузиазме или, лучше сказать, на свой собственный страх и свой собственный риск — разве можно жить более или менее долго? Да ещё и творить при этом.
Конечно, Пётр Сергеевич, он же майор Макуха, умом понимает, что никому его розыскная деятельность сегодня не нужна. И плоды её, как и результаты, никому из непосредственных современников в органах не пригодятся. А пригодиться они могут позже, уже в следующем веке и третьем тысячелетии. Когда неизбежно придут наши, в смысле, свои. Они возьмут его картотеку за основу, наведут вокруг новый, забытый порядок, и страна станет лучше и краше, а от этого немного улучшится и весь остальной мир. Но что будет к тому времени с самим Макухой и с субъектами его самодеятельных оперативно-розыскных мероприятий, сегодня никто не может предположить и убедительно предсказать, никакой Нострадамус не может. Возможно, они станут недосягаемы или умрут — кто своей, а кто и жестокой насильственной смертью. А возможно, превратятся в нищих и больных и никому не интересных членов общества. И государство нового типа возьмёт их под свою опеку и призрение, забыв о прошлом и всё им простив безвозмездно.
Короче, майор Макуха работал в стол, не будучи востребованным и понятым своей любимой родиной и своим любимым народом. Хотя такая неблагодарная деятельность в какой-то степени унижала его офицерское профессиональное достоинство, не позволяя увидеть плоды своего труда воочию и не откладывая в долгий ящик. Но он на своё достоинство плевал. Ради общего дела и блага. И ради будущего торжества идей. Он же помнил из истории, что идеи всегда в конце концов побеждают. Он это знал точно. Даже по своему предыдущему опыту. А у этих, нынешних, никаких идей за душой нет. Значит, им недолго осталось праздновать и править бал, особенно если оценивать время в историческом масштабе или контексте. Только на это майор Макуха и надеялся, и строил свои расчёты на этом. В уме подсознательно. Правда, у них, у нынешних, есть помимо идей всё остальное. И власть кое-какая, и деньги в особо крупных размерах, и, главное, компьютеры в неограниченном количестве. Без компьютера сегодня тяжело обходиться в быту. И майору Макухе если что и нужно позарез повседневно, так это свой персональный домашний компьютер. Правда, обращаться с ним он не умеет. Что нестрашно. И не таким вещам ему приходилось обучаться. Причём самостоятельно и в кратчайшие сроки. Упорство и труд, как говорится, никому даром не проходят. Они оставляют свои неизгладимые следы. И майор Макуха смог бы освоить любой персональный компьютер, если б только он у него был. Тогда бы он занёс в него всю картотеку — весомые результаты своих усилий за последние шесть лет. А потом можно было бы подключиться к сети Интернет и картотеку эту уникальную и совершенно секретную обнародовать буквально на всю планету. Чтобы она вздрогнула.
Как это технически делается, майор Макуха не знает — даже приблизительно. Но он знает, что это теперь делается. Что это осуществимо и в принципе возможно.
И если осуществить задуманное удастся, можно будет даже умереть с чистой совестью и спокойно в любое удобное для него время.
А без компьютера бесценная картотека — итоговый труд и венец всей жизни — лежит мёртвым грузом. Под диваном в пыли. И после его смерти не достанется никому. Так как нет у майора Макухи прямых настоящих наследников и потомков. А чужие люди могут свободно выкинуть его труд на помойку. Чего допустить, находясь в здравом уме и трезвой памяти, нельзя.
Поэтому майор Макуха систематически и параллельно разрабатывал два направления. Первое: «Постоянное и неуклонное пополнение картотеки опасных для народа преступников», — в основном, экономических, политических и прочих — и второе: «Поиски путей приобретения компьютера». Теперь это называется — найти спонсора. Что для майора Макухи ново и непривычно. Врагов советской власти он успешно искал и успешно находил днём и ночью даже в степи под Курганом. Иностранных разведчиков и шпионов — доставал из-под земли многократно. А спонсоров не искал он никогда. Не ставили перед ним таких стратегических задач. На том основании, что в его времена этих задач не существовало. А теперь — да, теперь они существуют и многих мучают.
Но нет таких задач, которые не могли бы решить майоры недавнего прошлого. И сейчас на повестке дня у майора Макухи стояла как раз эта, вышеупомянутая задача. И он шёл, чтобы снять её с повестки одним точечным ударом. Непростое решение было им найдено. Осталось воплотить его в свою жизнь. Конечно, решение не самое лучшее и не самое благородное. И чистые руки о него вполне можно было замарать. Но работа требует жертв. И всегда требовала она именно их.
Будущего спонсора майор Макуха выбирал себе по принципу «на кого бог пошлёт», методом тыка. Из экономического раздела картотеки. Открыл диван, стал к нему спиной и вытащил никуда не глядя карточку. И вот с этой самой карточкой и со всем досье в целом майор Макуха отправился к гражданину Борщевскому Е.Е., 1962-го года рождения, беспартийному украинцу с высшим техническим образованием.
По пути он купил себе два пирожка с капустой. Чтоб закусить виски и заодно позавтракать. Жир с пальцев вытер о внутренность карманов пальто. Дошёл до конторы Борщевского. То есть до его офиса. Вошел.
Никакой охраны в приёмном помещении не обнаружилось. Хотя суммы здесь оборачивались нешуточные и астрономические. И вообще никого не обнаружилось в помещении. Правда, через минуту из бокового кабинета вышла секретарша. И спросила:
— Вы по какому вопросу?
— Я к гражданину Борщевскому. В смысле — к господину.
— Женя, к тебе, — крикнула секретарша и села за компьютер.
«Даже у этой девки есть компьютер», — позавидовал майор Макуха.
— Пускай заходят, — ответили — также криком — из кабинета через закрытую дверь.
Майор Макуха по диагонали пересёк приёмную и вошёл в кабинет господина Борщевского.
— Слушаю, — сказал господин Борщевский.
— Это продаётся, — сказал майор Макуха и положил на стол досье. На папке всё-таки отпечатался один палец майора, испачканный пирожковым жиром.
Господин Борщевский скучно полистал бумаги, закрыл папку, спросил:
— Почём?
— Компьютер. Одна штука.
— Конфигурация?
Майор Макуха не предвидел подобных дополнительных вопросов и к ответу оказался неготовым.
Господин Борщевский подумал и изменил вопрос на более понятный:
— Какие задачи должен выполнять компьютер?
Майор Макуха тоже подумал и ответил:
— Картотека.
— База данных, что ли? — уточнил господин Борщевский.
— Да, — сказал майор. — База.
На что господин Борщевский сказал:
— Оставьте адрес у секретаря. Доставка в течение суток. Бумаги отдадите тем, кто привезёт машину.
— Какую машину? — не понял майор Макуха.
— Компьютер, — объяснил господин Борщевский и открыл ежедневник в чёрном кожаном переплёте, и в него уткнулся.
Майор Макуха забрал папку, вышел из кабинета, молча и разборчиво написал секретарше свой адрес, и как лучше проехать — написал. В том числе и городским транспортом. На всякий какой-либо случай.
В общем, успех подкрался незаметно. Чего майор Макуха не ожидал и не предполагал. Он думал, что этого жулика, злостно подрывающего экономику страны переводом безналичных денег в наличные и наоборот, придётся уговаривать, брать за горло, шантажировать. А этого майор Макуха не приветствовал. Считая неподобающим для боевого, можно сказать, офицера, для заслуженного бойца невидимого фронта. Фронта, которого сегодня, правда, нет. Но он был. И это всем следует помнить. Потому что не может быть, что его нет и не будет, он снова будет, возродясь из пепла, в чём нет сомнений ни у кого, кто хоть что-нибудь понимает в жизни и развитии общества по спирали.
Майор Макуха почти что уже ушёл, но вспомнил немаловажное, опять заглянул в кабинет Борщевского и сказал:
— Чуть не забыл.
— Что?
— Интернет мне. Вдобавок.
Борщевский посмотрел на часы и сказал:
— Хорошо.
Дома Пётр Сергеевич пообедал. У него всё для этого в наличии было — и хлеб, и лук, и квашеная капуста, и тонкое, с мясными прослойками, сало, которое он покупал на рынке в свежем виде и своими руками засаливал с перцем, тмином и чесноком. Его научил когда-то этому искусству один еврей, сотрудничавший с Петром Сергеевичем на общественных внештатных началах и на взаимовыгодных основаниях. Чай у Петра Сергеевича вообще никогда в доме не переводился. И макароны не переводились никогда. А что ещё нужно человеку для сытного обеда? Разве что рюмка водки. И Пётр Сергеевич зашел в супермаркет «Солнечный» и купил себе маленькую плоскую бутылочку очень хорошей водки «Карат». Хотя и дороговата она для пенсионера постсоветского типа. Но Пётр Сергеевич решил на себе и собственном организме сегодня не экономить. Чтобы отметить свой молниеносный сокрушительный успех как положено и в своё удовольствие. А не считая каждую копейку по два раза. И удовольствие он от обеда получил полное и максимальное, граничащее с райским, как говорится, наслаждением. Потому что ел и выпивал не спеша. Думая на разные интересные темы в форме внутреннего диалога, то есть как будто беседуя с кем-то — таким же умным, но воображаемым. А кроме того, он вспоминал гениальные стихи поэта Пушкина Александра Сергеевича, вернее, одну их строчку, ту, которая «Нет, весь я не умру».
И не заметил Петр Сергеевич, как за окном безнадёжно стемнело. На исходе осени темнеет рано, а светает поздно. И он лег на свой диван, под которым хранил, как зеницу ока, свою бесценную картотеку, и уснул. И спал до утра на спине. Часов до половины пятого. Он бы и дольше спал, но в дверь без уважения позвонили. Пётр Сергеевич вскочил, как молодой, прошлёпал босиком в прихожую и спросил хриплым басом:
— Кто там?
А ему ответили:
— Компьютер заказывали?
Конечно, он отпер дверь. Спросонья не усомнившись ни в чём. Хотя мог бы, будучи многоопытным майором, задать себе вопрос — чего это они в такую несусветную рань, когда и магазины все закрыты, компьютер привезли? А он не задал. И, значит, чего уж теперь говорить — мог, не мог. Теперь уже поздно об этом говорить. Теперь нет у Петра Сергеевича компьютера. И картотеки, служившей ему смыслом жизни, нет. Да и самого его скоро не будет, по всей вероятности, которая высока, а что будет со страной и миром, и будут они или их тоже не будет — пока неясно.
Гуманоид
С точки зрения остальных — Шурик был существом необычным и подпадал под емкое определение «ну что с него возьмешь!» Сам он насчет «что возьмешь» с остальными согласиться не мог, а насчет необычности — как раз мог. Только он не до конца понимал — необычен он? Или эти самые остальные.
По здравому размышлению Шурик склонялся к первому: а именно к тому, что необычность лежит в нем, в его, значит, личной области. Он даже иногда по ночам думал о себе: «А может, — думал, — я инопланетянин? Гуманоид, так сказать, и пришелец? Но тогда, — думал, — почему мне жрать хочется до боли? Тем более ночью, когда надо спать». И сам же себе объяснял: «Так, наверно, потому и хочется. Может, — объяснял, — они, в смысле, мы-гуманоиды, ночью должны есть, а днем — спать. Может, у нас природа такая нечеловеческая». Тут, конечно, у Шурика сразу возникали сомнения. Потому что жена его и супруга Светик — которая гуманоидом не была на сто десять процентов — тоже ночью любила встать и перекусить чего-нибудь на скорую руку. Она даже на дверь холодильника бумажку самоклеющуюся прилепила и на ней себе написала: «Ночью не жрать! И так корова». Но, с другой стороны, а почему бы людям и гуманоидам не иметь каких-нибудь общих черт и сходств. Как бы там ни было, а все мы — дети галактики, все, до самого последнего человека, будь он хоть трижды гуманоидом и пришельцем.
Кстати, в чем состояла необычность Шурика — а некоторые трактовали ее как ненормальность, — никто толком сформулировать не взялся бы. Просто ясно было как божий день, что он то ли не от мира сего, то ли не в себе. И никаких сомнений на эту тему ни у кого не рождалось — ни у Шурика, ни у остальных. Но у остальных вообще сомнения рождаются нечасто. Это истина широко известная. Про остальных говорить — вообще особого смысла не имеет. Потому как, ну что такое «остальные»? Это все, что ли, скопом? Так и Шурик — один из всех. Все — они разные бывают.
Во что верится с ощутимым трудом.
Но больше всего волновало Шурика не это. Его волновало, что будет с его детьми и потомками. Когда дети и потомки у них со Светиком появятся. Вернее, Шурика волновало — кем будут считаться их общие дети в том случае, если он действительно пришелец миров. Тоже пришельцами — по отцу? Или людьми в полном смысле этого слова — по матери? Тут подход может быть диаметрально различный. Как у разных народов к национальности. У русских или у тех же, например, украинцев она определяется хоть по отцу, хоть по матери — неважно и несущественно. А у евреев — строго по матери. И если твое отчество Абрамович, фамилия Абрамович, а мама у тебя турчанка, то для евреев ты не еврей, а турок. Хотя, конечно, и Абрамович.
Эти детские, если можно так их назвать, вопросы Шурик задавал себе регулярно. А ответа на них не имел ни малейшего. Может, потому не имел, что в собственном пришельчестве никакой уверенности у него не было. А сомнения — опять-таки были. И он их в конце концов задумал разрешить и развеять. Очень простым, гениальным, надо сказать, путем. Он придумал сдать в больницу свои анализы. И если они — результаты анализов крови и всего такого — будут положительными, то есть не будут лезть ни в какие установленные человеческой медициной рамки, значит, и сомневаться нечего.
В общем, приготовил Шурик все, что мог приготовить в домашних условиях, завернул это в газетку под названием «Торговый дом культуры» и пошел в близлежащую больницу. Вернее, в поликлинику районного масштаба.
Пришел, говорит:
— Мне бы анализы сдать.
А ему говорят:
— Направление.
Шурик начал не понимать, о каком направлении идет речь, а ему объяснили:
— Направление от лечащего врача давай.
Лечащего врача у Шурика, естественно, не было, так как он в последние годы ни от чего не лечился. Во всяком случае, не лечился при помощи врача. И он спросил:
— А где его взять, лечащего этого врача, если меня никто ни от чего не лечит?
Медсестра или кем там она была… в общем, человек в белом халате посмотрела на Шурика изучающе и сказала:
— А что это у вас в газетке?
— В газетке, — сказал Шурик, — у меня исходный материал. Я же говорю — мне сдать.
Конечно, медсестра могла послать Шурика подальше и заняться своими обязанностями старшего лаборанта. И она хотела его послать. Но не послала.
— Значит, вы с собой все, что нужно, принесли? — сказала она.
— Все, — сказал Шурик. — Кроме крови.
Тогда медсестра ему вежливо, на пределе своего терпения, объяснила:
— Вы понимаете, — объяснила, — нам надо знать, на что делать анализы — на сахар, допустим, или на что-нибудь другое. Общий, например, анализ…
Шурик обрадовался и сказал:
— Мне общий. Самый общий, какой только можно себе позволить.
— Зачем?! — терпение лаборантки сошло на нет и закончилось.
— Этого я вам сказать не могу, — Шурик трижды извинился за то, что не может. — Но я заплачу. Если за анализы нужно платить.
— Сейчас за все нужно платить, — сказала старшая лаборантка. — Время такое. Трудное.
А дальше события развивались по следующему пути. Шурик успешно сдал все свои анализы плюс кровь, заплатил названную лаборанткой сумму денег без сдачи и ушел гордый сам собой и своей предприимчивостью. Ему было чем гордиться. Поскольку произнести простую фразу «я заплачу» Шурик никогда не умел. А тут, значит, пересилил себя и произнес в нужное время в нужном месте. Когда же он пришел за результатами исследований, в лаборатории сказали, что ему обязательно нужно обратиться к врачу. «Значит, я — он», — подумал Шурик, восторжествовав. Но все-таки спросил:
— Почему мне нужно к нему обращаться? Девушка.
Лаборантка ответила просто, а главное — откровенно:
— Анализ показал наличие у вас крови в моче.
— Хорошо, хоть не мочи в крови, — сказал Шурик.
— А это еще неизвестно, — сказала лаборантка, и еще она сказала, чтобы Шурик следовал за ней.
Шурик добился своего, и всё про себя стало ему теперь ясно. А за лаборанткой он последовал из чистого любопытства и некоторого, так сказать, озорства. Чтобы посмотреть, как эти человеческие горе-доктора выпутаются из его гуманоидальных анализов.
И он посмотрел. На свою голову.
Его срочно положили в больницу.
Шурик врачу возражал:
— Зачем мне больница? Я здоров, как гуманоид.
А врач говорил:
— Здоровы — и хорошо. Здорового человека лечить даже легче, чем больного.
Короче говоря и меньше рассуждая, можно сказать, что на больничную койку Шурик угодил как кур в ощип. Или — во щи. Он позвонил из автомата жене своей, Светику, и пожаловался — мол, такое дело, и попросил принести ему зубную щетку, белье, стакан и поесть. А медикаменты ей медработники предписали обеспечить, когда она пришла к Шурику на первое свидание.
Конечно, Шурик ее разубеждал, говоря, что не стоит ничего им нести, поскольку он, Шурик, здоров. Но Светик говорила:
— Как же здоров, когда они все в один голос говорят, что болен?
Шурик склонялся к маленькому уху Светика и говорил:
— Да не соображают они ни хрена в моем здоровье. Здоровье у меня железное.
— А наличие крови в моче как понимать? — спрашивала Светик.
На что Шурик говорил:
— Никак не понимать, потому что это не кровь, может быть.
— Не кровь? — вот теперь Светик никак Шурика не понимала. — А что?
— Ну, — говорил Шурик, — что. Я не знаю, что. — И: — Это, — говорил, — предмет для пристального научного подхода. Вот что.
Можно не сомневаться и никого не нужно убеждать в том, что эти разговоры Шурика со Светиком успехом не увенчались. Светик, как верная жена и подруга, Шурику не поверила, а поверила, наоборот, врачам. И стала носить им всякие медпрепараты, покупаемые за большие деньги, иногда взятые в долг. А врачи этими принесенными препаратами Шурика интенсивно пролечивали. Несмотря на то, что не скрыли от Светика всю гибельность болезни ее любимого мужа. Обратился он слишком поздно. Если б хоть на месяц или на два раньше обратился — можно было бы на что-то реально надеяться. А теперь — что ж. Теперь, конечно.
Шурик, со своей стороны, во время приходов Светика донимал ее одной, правда, навязчивой идеей. Он говорил:
— Забери меня отсюда домой. Они ж меня своими лекарствами убьют медленной, но верной смертью.
— Нет, — говорила Светик, — они тебя не убьют. Они тебя, наоборот, вылечат, спасут и поставят на ноги.
Между тем, Шурику становилось все хуже и хуже. До тех пор становилось, пока не стало совсем плохо. И Светик вообще перестала уходить из больницы, сидя у постели своего единственного мужа сутки напролет.
И конечно, случилось то, что должно было к сожалению случиться. Однажды утром Шурик пришел в сознание и сказал:
— Видишь? Я ж тебе говорил, что они меня угробят.
Потом он помолчал, собрался с последними в жизни силами, улыбнулся уже не из мира сего, а из космоса и на оптимистической ноте закончил:
— Ну, ничего. Наши этого так не оставят.
Арктика
К воротам института, повышающего квалификацию всем подряд не хуже общества «Знание», я подошёл без пяти семь. Ворота ещё не открывали. И снаружи топтались люди с сумками, рюкзаками, детьми. Я поставил свой чемоданчик на бордюр.
— Убери, — сказал изнутри двора рыжий привратный грузин с сумасшедшинкой в голосе, глазах, осанке, одежде и вообще — во всём.
Я посмотрел на грузина сквозь прутья забора и вынул сигареты.
— На, — сказал я ему. И сказал: — Прима-люкс.
— Мне ворота открывать надо, — сказал грузин. — Когда директор приедет. Убери чемодан.
— В семь утра директор не приедет, — сказал я. — Он приедет в полвосьмого. Хотя работает с девяти и сегодня воскресенье.
— Убери чемодан, — сказал грузин, и его передёрнуло. — Я нервничаю.
— Кури, — сказал я.
— Я не курю с фильтром. Я за шестьдесят копеек курю.
— Фильтр оторвёшь.
— Не буду я отрывать, — грузин рассердился и озлобился. — У тебя жильё есть, а я тут живу. Вчера голодный ходил. У них выходной, а я голодный. Столовая закрыта, раз выходной. И курить нечего. А сегодня воскресенье.
— Ну ладно.
Я дал бездомному привратнику шестьдесят копеек и отодвинул чемодан от ворот. Привратник взял мелочь и затих, и светло улыбнулся неожиданным деньгам.
Пришёл озабоченный после ночи шофёр. Озабоченно поискал в карманах ключи. Нашёл. И все полезли сначала в ворота, потом в Ивеко-КРАЗ. Это название микроавтобуса и его марка. И надо же было такое название придумать.
Люди по очереди становились на подножку и по очереди исчезали в салоне. Я провожал их взглядом, и вошёл самым последним.
Как последнему, мне досталось место на заднем сидении. Чемоданчик я поставил в ногах. Поёрзал, усаживаясь. Откинулся на спинку кресла. И микроавтобус тронулся. Выехал сквозь ворота. Грузин с сумасшедшинкой козырнул водителю, поднял руку и помахал ладошкой. Прощаясь. Одна пола его пиджака полезла вверх, вслед за рукой.
Конечно, сзади трясло. У этого Ивеко подвеска, видимо, от КРАЗа, и идёт оно жестковато. Зато быстро. На Запорожском шоссе водитель разогнал его до ста двадцати км в час. Я смотрел в окно, считал километровые столбы, поглядывал на часы и делил расстояние на время. Да, ровно сто двадцать — два километровых столба в минуту.
Благо дорога была пуста. Во-первых, рано, во-вторых, воскресенье. Только изредка нас обходил, вроде мы не ехали, а стояли, какой-либо ёбнутый мерседес или такой же джип, ещё реже вылетал откуда-нибудь из-за бугра встречный автомобиль и проносился с воздушным хлопком слева, и исчезал сзади, и превращался в точку, а затем в ничто.
У Запорожья движение оживилось, затем стало чуть ли не интенсивным, и через город с мостами, светофорами и троллейбусами продирались минут сорок. Потом опять вырвались на простор, свернули с симферопольской трассы, и дорога вымерла окончательно. Она выглядела теперь даже не пустой. Она выглядела пустынной. Скорость, казалось, продолжала расти. Но это только казалось. Расти ей давно было некуда. Хотелось спать. Тряска уснуть не давала. А если давала, то тут же будила. И сон не длился дольше минуты. Ноги в кроссовках затекли. Джинсы резали промежность. Появилось желание выйти и размяться, и выпить чего-нибудь жидкого. И сквозь все эти сильные чувства я очень ясно, всем своим изнывающим телом, физиологически ощущал, что удаляюсь, освобождаюсь, забываю и успокаиваюсь. Остановились неожиданно, что называется вдруг. Ткнулись в придорожный базар.
Я сидел на своём заднем сидении, пока старики, задирая корявые ноги, переносили их через сумки, кряхтели и стремились по проходу к двери и далее — по ступенькам, осторожно, чтобы не загреметь лицом вниз, в кювет. Наконец, ступили на твёрдую землю. Полковник Чиж подал короткую — не длиннее собственной фамилии — команду, и пассажиры сквозь разнотравье потянулись к посадке. Один за другим, в затылок. В строгом соответствии полу. Старики от автобуса забирали наискосок вправо. Старухи, приподнимая платья и сарафаны — существенно влево. Две женщины с детьми, подумав, тоже взяли курс в кусты — между стариками и старухами, посредине. А я не пошёл ни вправо, ни влево, я остался и стоял в тени Ивеко и, хрустя костями, потягивался.
— Вы лектор? — сказали откуда-то сбоку.
— Лектор, — сказал я. — Что-то в этом духе.
Облегчившись, старики, старухи, женщины и дети обследовали базар. На предмет цен. Цены им не понравились. Так как ничем не отличались от городских.
В Бердянске женщины с детьми вышли. Они оказались женщинами водителя, ехали по знакомству, и к мероприятию отношения не имели. А мы поехали дальше. На косу. К пансионату с холодным названием «Арктика». Вернувшиеся отсюда, наверное, говорят «мы отдыхали в Арктике». А у них, наверное, спрашивают: «Дикарями или по путёвке?» И они говорят: «По путёвке».
Нас встретила стареющая, но пока ещё средних лет дама в монотонных летних одеждах.
— Воду из крана не пить, — монотонно сказала дама, — бычков не покупать — идёт ежегодный выброс задохнувшейся от жары рыбы, — купаться в заливе, там спокойнее, горячая вода три раза в день — утром, днем и вечером, питание — то же самое, начало занятий во вторник.
Мы заняли двухместный номер. Я и лектор — специалист по Холокосту, сотрудник фонда Спилберга.
— Чем они красили пол и двери? — спросил я, осмотревшись. — Такого цвета в природе нет и названия у него нет.
— Да, — сказал лектор, специалист и сотрудник. И сказал: — Час пробил. Обед.
В огромную каменную столовую поднимались по крутой лестнице. Голодной колонной. Загорелые тела мешались в этой колонне с бледными, молодые с ветхими, женские с детскими. Еды оказалось много, непомерно много. В один присест не осилить — нечего и пытаться. Хотя большинство пыталось и осиливало.
Купаться в море действительно было нельзя, противно и невозможно. Бычки, разорванные на ошмётки волнами, колыхались у берега сотнями и валялись на пляже сплошным высыхающим месивом. Из месива торчали во все стороны рыбьи головы, рты и глаза. Воздух и море воняли тухлым. По пляжу ходили босые мужики, граблями сгребая бычков в кучи. На кучи восторженно слетались мухи, а пляжные собаки и кошки обходили их стороной, брезгливо поджимая хвосты.
— Пошли отсюда, — сказал я. И мы пошли к заливу.
Я окунулся и забыл обо всём. И поплыл, разрывая руками и ногами прибрежные водоросли. Мимо обнажённой яхты, стоящей на якоре, мимо спящего рыбака в сапогах по грудь, мимо фантастически огромной тётки со следами отсутствия былой красоты на лице. Она возвышалась, доминировала над акваторией, не решаясь ни войти, ни выйти. Вода обступала тётку и плескалась вокруг, принимая её за утёс. Я плыл и чувствовал, как растягиваются суставы, позвоночник, локти, колени, мышцы. И больше не чувствовал ничего. И ни о чём не думал. И ничего не помнил.
— Я решил, что ты утонул, — сказал лектор по Холокосту.
— Почему? — сказал я и отдышался. — Я могу держаться на воде долго — не бесконечно, но долго.
— Надо не сгореть, — сказал лектор.
— Надо, — сказал я.
— А то солнце сейчас активное, — сказал лектор. — В газетах пишут.
— В газетах пишут, — сказал я.
Потом мы ужинали. Потом снова плавали в заливе. И сохли на активном солнце, как бельё. Подошёл коричневый мужик и приступил к делу:
— Хотите, — сказал, — на яхте пройтись? Я сам их делаю. В гараже. Четыре тыщи долларов штука. В прошлом году в России продал десять яхт.
Он посмотрел на нас — верим или нет — и сказал:
— Да. Хорошо было в прошлом году в России.
— Почём прогулка? — спросил лектор.
— Доллар час, — сказал мужик. — С человека. — И сказал: — Можно с высадкой на островах и купанием.
— Не хотим, — сказал я.
— Дорого? — сказал мужик.
— Нет, — сказал я. — Цена приемлемая.
Пришла организаторша семинара с псом Максом на поводке. Пёс скорбно смотрел на воду и пятился, бороздя задницей мокрый песок. Его хвост при этом торчал и вздрагивал.
— У вас одна лекция? — спросила организаторша.
— Одна, — сказал я. — Вы просили одну.
— А две можете прочесть? — спросила организаторша.
— На какую тему? — спросил я.
— Не знаю, — сказала организаторша.
— Тогда могу, — сказал я.
— А три?
— Могу и три.
Организаторша оживилась и качнулась в порыве благодарности. И произнесла:
— И круглый стол в конце проведёте спасибо, а то у меня этот ваш семинар под таким вопросом в печёнках сидит!
— Под каким вопросом?
— Ну, я к прессе прямого отношения не имею. Доцент Немыкин приехать отказался. Кацман из Питера — согласился, но не приедет.
— А Немыкин имеет отношение к прессе?
— Ну, он же доцент. Факультета журналистики.
— А, ну тогда конечно. Тогда правильно.
В другое время я бы этот семинар проигнорировал. В смысле, послал. Не люблю шаровых бессмысленных сборищ. Скучно. И народ на них чаще скучный. Но сейчас, куда ехать, значения не имело, лишь бы не сидеть там — в городе денег, чугуна и стали, вони и пыли, дома, на работе, в дерьме. Потому что дерьмо лилось и лилось. Лилось и лилось. Отверзлись хляби небесные на мою голову и были они полны дерьма различного и прочего. А тут — предложили. И я согласился. И поехал. Четыре дня у моря. Ни о чём не думая. Бесплатно. Ничего лучшего в моём незавидном положении придумать нельзя. И пусть не одна лекция, пусть три. Пусть ещё круглый стол. Какая разница? Одна, три, круглый, квадратный.
Лектор стоял и слушал нашу беседу. Его пригласили на другой семинар. Вернее, на два семинара. Для ветеранов войны и для узников концлагерей.
— А Зарайский приедет? Или мне тоже самому семинары проводить? — сказал лектор.
Организаторша сказала:
— Доктор исторических наук Иван Михайлович Зарайский уже в пути, и утром его встретит автомобиль. Ещё она сказала, что узникам и ветеранам она и сама будет читать кое-какие лекции. Поэтому с узниками и ветеранами всё в порядке. Тем более в жару их нельзя слишком загружать и доводить до инфаркта — у них здоровье ни к чёрту.
Весь завтрашний день они съезжались. Из разных концов страны и, как говорится, региона. Узники, ветераны, редакторы газет. И весь день работники института их встречали, селили, инструктировали насчёт воды и бычков, водили в столовую. В конце концов, приехало человек семьдесят. Или восемьдесят. И Зарайский приехал. Слава Богу. А то бы ещё ветеранам и узникам пришлось читать лекции. А что я могу им сказать, кроме большого спасибо? Ничего. А то, что могу, им не нужно. Ни к чему. Без надобности.
Вечером узники истерически веселились. Для них предусмотрели культурную программу под аккордеон и песни разных народов. Ветераны не отставали от узников и ни в чём им не уступали. Редакторы наблюдали веселье из окон, умиляясь и мысленно аплодируя. Мы с лектором и Зарайским пили водку. Платил почему-то я. И всем было хорошо.
Перед сном я долго стоял под очень горячим душем, получал удовольствие, граничащее с наслаждением. Дома-то горячей воды нет с мая. И не будет до сентября, как минимум.
— А я не пойду в душ, — сказал лектор, оглядев меня, красного и разбухшего.
— Почему?
— Буду опускаться.
Завтра в семь я был уже в заливе. В одну минуту восьмого я плыл, глядя из воды, как браконьеры лениво и безмятежно втаскивают сеть в алюминиевую лодку. От веса рыбы в сети лодка накренилась на левый борт и стояла так, покачиваясь и выставив из воды половину днища. В восемь я снова стоял под горячим душем. В девять лежал на койке после обильного до отвращения завтрака, пропуская общую для всех семинаров лекцию о международном положении. Лежал и думал: «Зачем я ел масло? Я же никогда не ем масла».
К десяти пришла моя группа. Редакторы новых мелких газет. Я предложил заниматься на воздухе. Предложение приняли единогласно. Разместились в беседке. Слева дети, визжа, катались на качелях. Справа на скамейке целовались дети постарше. Яхта в заливе поднимала желтоватые паруса.
— Начнём? — сказал я.
Все промолчали. В глазах семинаристов светилась только сытость. Но светилась тускло. Что-то я им в общих чертах рассказывал. И, кажется, сам увлёкся. И, кажется, заразил их. Они перестали клевать и задрёмывать. Хотя говорил я элементарные вещи, известные всем, работающим в СМИ более или менее долго и профессионально. Но для этих всё было внове. Всё интересно и загадочно.
Через час я закончил.
— Перерыв.
— У меня тоже есть сообщение, — сказал пожилой мужчина с горизонтальным носом. — Я из Кременчуга.
— И у меня было, — сказала симпатичная пожилая карга из Полтавы. — А теперь нету. Потому что я думала, мы будем о духе и общечеловеческих ценностях говорить сквозь призму политического аспекта, а вы «вёрстка, реклама, бумага, заголовки».
Я извинился перед симпатичной каргой, что не оправдал её надежд, посоветовал жаловаться на меня в письменном виде, пообещал дать слово человеку с носом и ушёл к заливу. Снял рубашку и шорты. Влез в воду. И опять забыл обо всём. И о семинаристах, смотрящих мне в спину с расстояния двадцать метров, в том числе.
После перерыва редактор из Кременчуга объявил тему своего доклада: «Как сделать газету интересной». И полчаса рассказывал, что прошёл жизненный путь от старшего пионервожатого до директора школы и параллельно от рядового юнкора до члена союза журналистов в шестьдесят девятом году и главного редактора газеты — органа нацменьшинств — в двухтысячном. Как сделать газету интересной, он так и не рассказал. Может, забыл.
— Продолжим, — сказал я.
— А моё сообщение? — сказала карга из Полтавы. — У вас совесть есть?
— Вы сказали, что у вас нет сообщения, — сказал я.
— Как нет? — сказала карга.
И она рассказала, что её муж двадцать лет назад окончил Литературный институт имени Горького и с тех пор издаёт в Москве журнал. Что у неё дома, в Полтаве, библиотека — шесть, нет, семь тысяч томов. Что она лично знакома с раввином Штейнзальцем, Павлом Лазаренко и Муслимом Магомаевым. Что знает английский язык весь до мелочей. Что не ест свинину, яичницу и абрикосы. Что отсюда едет к маме в Алушту, так как у той знаменательная дата и юбилей: ровно восемьдесят один год со дня рождения.
Я сидел расслабившись, глядя на свои волосатые ноги. Они вылезали из шортов, криво длились, краснея сквозь растительность, и влезали в шлёпанцы. По спине текла струйка пота. С каждой новой минутой солнце становилось злее и разогревало беседку, воздух, землю, залив, всё.
«Интересно, убрали сегодня бычков или не убрали? — думал я. — Убрали или не убрали?»
После обеда с лектором и Зарайским сходили на море. Бычков с берега вывезли. А вонь осталась. И в воздухе, и в воде. Море пропахло падалью на всю глубину, насквозь. Но мы искупались. Под навес пришла пляжная трёхцветная кошка и легла на мою футболку. Я купил ей у разносчика пирожок с мясом, и она съела его избирательно. Не выказав никакой благодарности. На отдыхе люди добреют и её подкармливают. Она не пережила ещё ни одной зимы и не знает, что такое голодать и наедаться впрок.
Лектор и Зарайский не переставая о чём-то говорили. Или спорили. Оба — маша руками. Я пропускал их разговоры мимо ушей. Они пропускались, но не целиком. Отдельные слова я слышал: «Немцы, евреи, холокост, румыны, гетто, узники, дети, Майданек, врут, золото, деньги, банки, изучать, чтобы»…
Потом я опять вёл занятия, анализировал привезённые участниками семинара газеты. Конотоп, Мелитополь, Луганск, Полтава, Павлоград, Сумы. Запомнил название статьи «Твёрдая рука милосердия» и начало интервью: «Наша беседа шла под стук молотков и запах краски». Окончание интервью тоже запомнил: «Каковы ваши творческие планы? Они большие».
Потом опять ужинал и опять плавал в море. К вечеру оно совершенно освободилось от дурного запаха. Очистилось и воспряло. И качало меня на тихих волнах, усыпляя и завораживая. «Ещё два дня. Ещё целых два дня. Просто не верится».
Вечером мы опять пили. Почему-то не водку, а пиво. Но платил почему-то опять я. Узники и ветераны опять веселились. Опять танцевали и пели. И всем опять было хорошо.
И завтра тоже тянулось медленно и долго, так медленно и долго, будто не имело ни конца ни края. Я снова и снова лез то в море, то в залив, то в душ. Снова и снова питался. Снова и снова читал лекции и выложил чуть ли не весь запас своих знаний, дойдя до газетных баек. Закончил коронной и случившейся на моём газетном веку в действительности. Я тогда ещё предлагал дать корректорше, пропустившей опечатку, премию. Опечатка была такая: вместо «надпись на кольце царя Соломона гласит — всё проходит», газета вышла с утверждением «надпись на конце царя Соломона гласит» далее по тексту.
…После того как семинар успешно завершился, и организаторша сто раз меня поблагодарила, а я сто раз сказал ей «не за что», впереди оставался почти целый свободный день, а перед ним — ночь. Наше Ивеко отправлялось завтра, в шестнадцать часов. И я не уставал радоваться и ликовать, что я здесь, а не там, что мне хорошо, а не плохо, что я ничего не знаю и знать не хочу, что у меня есть море, есть залив, есть душ — и, хотя это все мои богатства и сокровища, мне ничего больше и не надо.
Ночью я спал тяжело и эпизодически. Лектор храпел, задыхаясь от аллергии. В мой правый висок въехало болевое сверло и упёрлось изнутри в глаз. Где-то поблизости ныл голодный комар — лицо перед сном я смазал кремом Off, и сесть на него он боялся. От всего этого утро началось мрачно. И позже обычного — в полвосьмого. Браконьеры уже вытащили свои сети. Солнце встало и раскалилось. Залив подёрнулся тошнотворной рябью. Плыть не хотелось, и я плыл через не хочу. Через не хочу сжимался в комок, подбирая под себя ноги и руки, через не хочу длинным толчком вытягивался, а отгребал ладонями слой воды совсем уже через силу. И на берег выходил через силу. То же было и с душем, и с завтраком. Поэтому завтракал я долго. Все за столом закончили есть, встали и вышли из столовской духоты на свежий ветер. А я всё сидел и жевал, и проглатывал. Что — не знаю, не заметил, не обратил внимания.
Доев, наконец, я спустился по лестнице и у лотка с кассетами и компактами наткнулся на лектора. Он молча рассматривал их, а девушка-продавщица заученно перед ним распиналась:
— Какую музыку предпочитаете? Рок? Рэйв? Диско? Джаз? Есть последняя Ванесса Мэй. Линда. Стинг. На-На. Или, может, вам нужен Паваротти? Он тоже есть, но на складе.
— Что вы ему рассказываете? — сказал я, проходя и не останавливаясь. — Он глухой.
Девушка открыла рот и не закрыла его. Лектор тоже опешил и удивился. Потом догнал меня и расхохотался. И сказал, что шутка ему понравилась и удалась, так как он любит шутки, если они экспромтом, а не от фонаря.
Мы шли вдвоём, естественно, в сторону моря. Зарайский уехал утром общественным транспортом дальнего следования. По неотложным научным надобностям. Я обнаружил, что несу в руке бифштекс. И понял, что несу его пляжной трёхцветной кошке. Разделись на скамейке под тентом, остыли, позвали кошку и стали её кормить. «Что она тут пьёт? — навязчиво думал я, пока кошка ела. — Или она привыкла к морской воде?» Понемногу сползлись ветераны и узники. Видимо, попрощаться с морем. Погрузиться напоследок в его серые воды. Конечно, до четырёх часов — а многие уезжали ещё позже — можно было погрузиться в море раз сто. Но у стариков свой счёт времени и своё представление о его беге. Редакторы отсутствовали. Наверно, читали газеты.
После обеда, складывая вещи, я в один момент осознал, что бал вместе с маскарадом окончен, что четыре дня прошли, и что Ивеко-КРАЗ уже где-то недалеко и едет по мою душу, пожирая километры, подпрыгивая на их стыках, приближаясь.
Я свалил своё добро в чемоданчик. Прижал крышку. Замки защёлкнулись.
— Освободите, пожалуйста, комнату, — сказала горничная. — А то я до конца рабочего дня убрать не успею.
— А вещи? — спросил я. — Не таскать же их до шестнадцати часов с собой.
Горничная протянула мне ключ:
— Вещи поставьте в двести девятую. Ключ сдайте внизу. Или повесьте.
Я перенёс чемоданчик. Лектор — сумку и рюкзак.
— Спасибо вам, — сказала горничная. — А то никто комнаты не освобождает.
— Ну, — сказал лектор, — искупаемся на посошок. Ты в плавках?
— В плавках.
— А я без.
Море слегка штормило. Так, не всерьёз. Тучи ползли тяжело и низко. Но не сплошь. Местами они зияли здоровенными промоинами, и сквозь них безбожно палило солнце. Я вошёл в воду как можно быстрее, чтобы не щекотать себе нервы, лёг грудью на волну и поплыл. Не спеша. Размеренно, на выдохе двигая конечностями, не борясь с волнами, а наоборот — используя их для собственного движения. Давая волне поднять меня, чтобы потом соскользнуть по её склону. Так, без усилий, я отплывал всё дальше от берега. Я могу держаться на воде очень долго. Не бесконечно, но долго. И я держался. И понял, что не вернусь.
Я не собирался тонуть, я же не идиот и не Мартин Иден, но и уезжать в шестнадцать ноль-ноль я не собирался. Пропади оно всё пропадом. Что угодно, только не этот чёртов Ивеко-КРАЗ, набитый узниками и ветеранами и развивающий бешеную скорость движенья. Пусть уезжает без меня. Я не хочу обратно, в дерьмо, в нелюбовь, в грызню. Я хочу остаться. Денег у меня маловато, но ночи сейчас тёплые, спать можно и на пляже. Кошка же там спит. Ем я совсем мало, без разбору и что придётся. А вещи оставлю в корпусе. У той же, допустим, горничной. Она отказать не должна. Она девушка добрая.
Я плыл и жалел, что оставил на суше часы. Они водонепроницаемые, и с ними я мог бы вернуться, скажем, к половине шестого. А так, сколько я здесь барахтаюсь — час, два или три — никак не определить. И далеко ли я заплыл — тоже что-то неясно. Берега нигде не видно. Вокруг только море. Чистое и прозрачное. Значит. Наверное. Далеко.
Не спас
Раньше Игорь Семёнович считал и был уверен, что по его фамилии определить ничего невозможно. Относительно происхождения и национальной принадлежности. Он думал, что фамилия у него никакая, в том смысле, что нетипичная и нехарактерная. Швецкий. Не от слова «швед», конечно, а от слова «швец». Портной, значит. И имена у родителей его были, ничего конкретно не говорящие. Отца вообще, как Будённого, звали — Семёном Михайловичем, а мать тоже имя интернациональное носила: Инна Мироновна. То есть, возможно, при рождении назвали их не совсем такими именами и отчествами, в 1918-м и 1920-м годах. Тогда у многих ещё сохранилась народная традиция и привычка называть детей более откровенно и по-своему. Но те метрики и другие удостоверения личности не сохранились во времени, и в паспорта внесли им имена-отчества вышеупомянутые. И в свидетельствах о смерти те же имена значились. И на памятнике. Игорь Семёнович общий им памятник поставил на двоих. Поскольку всю жизнь они вместе прожили, одной семьёй, в одной квартире. И со смертью, значит, ничего у них не изменилось. Об этом Игорь Семёнович позаботился. И о себе одновременно — тоже он позаботился. Потому что на одну могилу ходить всё-таки удобнее, чем на две в разных местах. Тем более ходил он к родителям своим часто. Особенно если по сравнению с другими. Во-первых, на дни их рождения ходил. Во-вторых, на день смерти. Они в один день умерли. Не вместе и сразу. Нет, умерли они в разные годы. Но оба пятого сентября.
Ну, и обязательно весной, когда земля подсыхала, приходил к родителям Игорь Семёнович. Чтобы убрать грязь, за зиму скопившуюся, цветы посадить, то, сё. Да и так заходил он, без повода и причины. Когда настроение соответствовало. Что тоже случалось чаще, чем хотелось бы. А по аллеям походит, посмотрит на чёрных ворон и собак кладбищенских — свободных и независимых существ, которые, правда, всё равно о смерти напоминают, — и легче вроде жить, какое-то время.
Он даже с удовольствием некоторым по кладбищу гулял, Игорь Семёнович. Как по парку культуры и отдыха. Памятники разглядывал, то, что живые о мёртвых на камне пишут, читал. А кроме того он выяснил, что на кладбище, точно так же можно своих знакомых встретить, как и на улицах города. Только в городе встречаешь тех, кто ещё жив, а на кладбище — тех, кто уже мёртв. Таким образом он директора своей школы встретил, Сотника Ивана Демидовича, и доктора Юрия Рябова, маму в самом конце лечившего, и своего однокашника Лёньку Гусева, который был живее всех живых в группе, здоровее и жизнерадостнее.
И в общей сложности двенадцать лет ходил сюда Игорь Семёнович время от времени, и всё было тихо, спокойно, как подобает, несмотря на нервную политическую обстановку в стране. А потом, значит, началось и пошло с год назад вразнос, как по маслу.
Пришел он новой весной к родителям, смотрит, а памятник на земле лежит. Навзничь. Не разбит, не осквернён ничем, но — на земле. Игорь Семёнович подумал, что, может, упал он. Сам по себе, без человеческого участия и умысла. Ну, земля поползла под воздействием снега и талых вод. Земля же на кладбище жирная, скользкая — вполне могла поползти. И в тот, первый раз, Игорь Семёнович нанял рабочих местных, могильщиков, и они за некоторую — не малую, но приемлемую — сумму восстановили памятник на прежнем месте. Сказав, что теперь будет стоять, не хуже, чем у Ленина — никуда не денется. А через неделю буквально Игоря Семёновича что-то как в бок толкнуло. Он ехал в троллейбусе — по работе ему надо было — и неоправданно ничем вышел на предпоследней остановке. А не на последней, как полагал по ходу дела и по логике вещей. И пошёл по асфальту. Дошёл до кладбища, до могилы добрался — опять памятник лежит. На боку. И через обе фотографии краской зелёной полоса проведена. Жирная полоса. Прямо по лицам. Справа налево и наискось. А внизу, почти у самого основания, написано: «Ха-ха-ха».
Ну, тут, конечно, деваться Игорю Семёновичу стало некуда и всё он понял как есть. Понял, что имеет дело с актом вандализма так называемым — о них в газетах не раз писали. Он это ещё и потому понял, что осмотрел другие памятники и могилы, те, которые вблизи располагались, в радиусе обзора. И все они, если хоть намёк какой-нибудь содержали на происхождение покойника нечистокровное, были как-нибудь испорчены. Или той же краской памятники расписаны нецензурно, или куски от них отбиты, а на одной фотографии усы к лицу кто-то пририсовал — опять же зеленью ядовитой — и окурок к губам приклеил. А лицо и памятник, и могила, само собой разумеется — женщине молодой принадлежали, в родах умершей.
И почувствовал Игорь Семёнович в себе злобу, и понял, что она поднимается, и что он начинает борьбу не на жизнь, а на смерть. Вернее — за смерть. Чтобы право смерти для матери своей и отца отстоять, право на вечный покой. Правда, с кем он собирался вести борьбу, было ему не известно. С невидимым противником, с фантомами. И не с ними самими, а с результатами их деятельности. Выследить-то такого противника невозможно. Разве только поселиться на кладбище, на ПМЖ. Но тут — всему своё время и свой час. И раньше этого часа никто на кладбище переселяться не должен, и стремиться туда — не должен. И Игорь Семёнович не стремился. Он только понял, что с рабочими договариваться об установке памятника — неэффективно. Никаких денег не хватит с ними договариваться. Да и кто даст гарантию, что не они же сами памятники и валят? В целях получения дополнительного левого заработка. От мужчин с такими лицами и с такой профессией можно ожидать чего угодно. Они посреди смерти работают, ежедневно, их проблемы и чувства живых людей давно не интересуют. Их только свои собственные проблемы интересуют: чтоб не стеснять себя в еде и в питье, а также в средствах передвижения и проведения досуга вне территории кладбища.
На всякий случай и для очистки совести, Игорь Семёнович всё-таки зашёл к ним, сказал, что над мёртвыми кто-то глумится и издевается беззастенчиво, мол разве это допустимо? А они сказали ему:
— Мы ничего, — сказали, — не знаем. Мы ж на ночь тут не остаёмся жмуров охранять. И нам, — сказали, — за это не платят.
Можно было бы, наверно, ещё в милицию обратиться, но Игорь Семёнович о таком варианте и ходе даже не подумал. Не пришла ему милиция в голову. А сделал он, значит, вот что. Он себе у соседа, лет пять уже без перерыва пьющего, автомобиль купил. То есть не автомобиль, конечно, а «Запорожец» старого образца. За сто долларов сосед ему этот «Запорожец» с дорогой душой продал. Причем в отличном состоянии. Руки-то у соседа хорошие были, когда не пил он. И у самого Игоря Семёновича тоже руки откуда надо росли. И не боялся он, что машина старая и в эксплуатации ненадёжная — поскольку вполне мог с нею совладать своими силами и своим умом. А к машине он докупил лом с лопатой, растворитель и цемент. Задние сидения вынул, всё это туда сложил и там оно находилось. Всегда. И каждую неделю, в воскресенье, стал Игорь Семёнович по одному и тому же маршруту на своём «Запорожце» горбатом ездить. Приедет с утра, поставит памятник в вертикальное положение, зацементирует. Если краской он испачкан — растворителем краску смоет. Посидит, покурит и уезжает отдыхать после трудовой недели. А в следующее воскресенье опять едет. И опять то же самое делает. Делает и думает:
— Я всё равно упрямее вас, гадов, — и: — Только бы, — думает, — памятник не разбили и не уничтожили или — что ещё хуже, не украли. А если, — думает, — попадётесь мне по какой-нибудь счастливой оплошности, убью я вас ломом или лопатой, в зависимости от того, что под рукой окажется. Убью и даже о добре и зле при этом не задумаюсь.
Короче, долго он так ездил. Всю весну и всё лето, и всю осень дождливую, и всё начало зимы. Как на работу ездил. И понял в конце концов, что на своё терпение зря он надеялся и полагался и что не такое уж оно железное, и вполне может лопнуть. А главное, неясно, что делать, когда терпение всё-таки не выдержит — жить продолжать или чем-то иным заняться.
И тогда стал Игорь Семёнович думать. Тут же, на скамейку присел и думает. И придумать ничего не может. Так бы он, наверно, ничего стоящего и путного и не придумал, если бы не ворона. Которая, как в страшном кино, на кресте сидела. Уселась и сидит, значит. Головой вертит то вправо, то влево. Вот она и натолкнула Игоря Семёновича на эту мысль нестандартную. Вернее, не она, а то, на чём она сидела. Крест имеется в виду кладбищенский, вот что. Обыкновенный деревянный крест.
И позвонил Игорь Семёнович шефу, и попросил на завтра отгул. А завтра поехал он к ребятам на завод, где раньше, ещё при советском строе, работал, и заказал им крестик небольшой изготовить — из нержавейки. Ребята заводские, конечно, удивились — зачем ему это понадобилось, — но крестик сделали, без вопросов. Прямо в присутствии Игоря Семёновича. Сантиметров пятнадцати высотой крестик, не больше. И денег не взяли. По старой памяти и дружбе и в знак солидарности всех трудящихся. Игорь Семёнович сказал им большое спасибо от всего сердца и поехал с крестиком своим на кладбище. А дома он ещё дрель в машину бросил ручную, коловорот по-старому, и сверло, каким кафель сверлил, когда в ванной комнате ремонт делал.
Приехал — памятник стоит. Не успели ещё с ним расправиться со вчера. Ну, Игорь Семёнович достал коловорот, сверло в патроне зажал и сверху в памятнике отверстие просверлил вертикально. Довольно легко оно просверлилось, в так называемой мраморной крошке. А в отверстие он влил цемента разведенного и крестик туда же вставил. И в «Запорожце» посидел, пока цемент схватываться начал. А после он решил ещё посидеть — подождать, чтоб застыл цемент достаточно крепко.
Он так думал себе, Игорь Семёнович, когда все эти действия производил: «Родители меня, — думал, — за этот крест не осудят, поскольку не были верующими при жизни, не успев дожить до свободы и открытости всех вероисповеданий без разбору. А Бог, если он, конечно, есть, тоже меня поймёт. И, возможно, простит при случае. Потому что не может же он не понять, что я это не ради себя делаю, а ради родителей своих. Чтобы дали им, наконец, заслуженный покой. А то при жизни они его в глаза не видели и сейчас не видят. Разве это справедливо и по-божески?»
И всю последующую неделю Игорь Семёнович даже злорадствовал наедине с собой втихомолку. Представлял себе, как подходят эти сволочи к могиле, а на памятнике — крест. Они смотрят на него, смотрят друг на друга и уходят. Не солоно, как говорится, хлебавши. И ехал он в следующее воскресенье на своём «Запорожце», веселясь внутренне и насвистывая. Хотя на кладбище, веселясь, нормальные люди не ездят.
А когда приехал и вышел из машинки своей, морально и физически устаревшей, и к могиле вплотную приблизился, весёлость его истаяла и иссякла. В один фактически миг. Потому что памятник теперь не только лежал на земле, но и разбит был что называется в мелкие дребезги. И крест, в грязь втоптанный, рядом валялся.
Не защитил он, значит, родителей Игоря Семёновича. Не спас. Наверно, потому не спас, что всё против фантомов этих бессильно. Всё и все. Даже Бог бессилен. Еврейский Бог, христианский… Оба бессильны. Что понятно, если вдуматься, и объяснимо. Ведь оба они есть один и тот же, всеобщий, единый и неделимый Бог, Бог, подаривший нам, людям, как образ свой, так и своё подобие.
