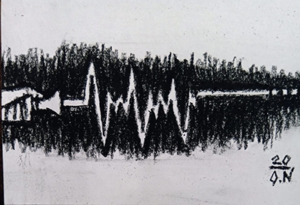Эта книга состоит из текстов, написанных в основном с 2010-го по 2022 год. И несмотря на то, что в ней есть рассказы о войнах — Второй мировой и Российско-Украиской — она по сути своей довоенная. Почти все эти рассказы были опубликованы в известных литературных журналах (см. Опубликованное). Цикл, давший книге название, получил в 2020-м году первую премию имени Исаака Бабеля. Издать эту книгу в России у меня не было даже мысли. Даже до войны. Сейчас — и говорить не о чем. Было желание издать её в Украине, но Украине сейчас не до моих книг. Поэтому выкладываю её здесь. Приятного вам чтения.
Александр Хургин
Май 2022 года
Иллюстрация Олександра Нем’ятого
ЛЮБОВ
Полёт
Крыша казалась мягкой и липла к ногам. Ветер носил по чёрной рубероидной поверхности какой-то посторонний мусор и гнул антенны. Антенны качались, но не гнулись, а только вибрировали.
Четыре чёрных кота в белых манишках загнали сюда рябую худющую кошку и теперь стерегли. Кошка делала вид, что их не знает и отношения к ним не имеет.
Мимо кошки прошли, прилипая, два юноши. Приблизились к краю крыши и посмотрели вниз. С опаской и осторожностью.
Внизу статично гуляли мамаши с колясками. В колясках угадывались дети. Родившиеся совсем недавно. Некоторые из них были тихи. Видимо, спали. Некоторые орали, требуя чего-то своего, детского.
Через двор брели в универсам доживающие старики и старушки. Им навстречу двигались такие же старики и такие же старушки, но с грузом.
— Двенадцать этажей, — сказал Воёдя, — это до хрена.
— Если с крышей, — сказал Слива, — считай тринадцать.
— Оба убьёмся, — сказал Воёдя. — И кому тогда наша Светка достанется?
— Может, и не убьёмся, — сказал Слива. — Деревья, кусты вон.
— Кусты хуйня, — сказал Воёдя.
— Нет, — сказал Слива, — весной они мягкие, я в них был.
— Со Светкой? — сказал Воёдя подозрительно. На что Слива вздохнул.
Они постояли, глядя в землю. Земля была далеко. Унылая земля Амур-Нижнеднепровского района. Откуда тут, на Днепре, взялся Амур, не знает никто. А Нижнеднепровский — понятно. Поскольку есть Нижнеднепровск и Верхнеднепровск. Правда, тогда по логике вещей должен быть и Среднеднепровск. Но его нет. И логики никакой нет. Это все знают.
— С тринадцатого прыгать отказываюсь, — сказал Воёдя. — Несчастливое число. Давай с четвёртого прыгнем.
— С четвёртого точно не убьёмся, — сказал Слива. — С четвёртого никто не убивается. У нас даже кошка с четвёртого упала, и хоть бы что.
— Ну с девятого.
— Ага, придём к Светке, залезем на подоконник и вниз.
— К Светке нет, у неё паханы и вечная бабка в кухне.
Да, девятый этаж, он и для жизни не самый лучший, не только чтобы прыгать. Но бывают и хуже этажи. Например, первый. Или двенадцатый. На которых тоже некоторые люди живут. Несмотря на постоянную угрозу проникновения домушников и протечки кровли насквозь. А Светка жила именно на девятом. Её так и звали — Светка Девятка. Прозвище такое. Среди молодых людей её возраста и её, а также и не её пола. И в эту Светку были влюблены Слива и Воёдя. То есть целых два юноши одномоментно были в неё по уши влюблены и не могли между собой поделить без остатка. Ну, и чтобы изыскать выход из безвыходного положения, Слива и Воёдя решили покончить героическим самоубийством. В смысле, прыгнуть с крыши. Кто выживет, тому и Светка, а кто нет — тому нет.
Слива и Воёдя — это тоже прозвища. Клички. По вековым традициям Амур-Нижнеднепровского района все должны были иметь клички и все их, от мала до велика, имели в своём активе. Вернее, Слива — это даже и не совсем кличка. Слива — это такая фамилия причудливая. Но выглядит эта фамилия, как хорошая кличка, поэтому никакой другой Сливе и не присвоили. За ненадобностью. А Воёдя от имени Володя произошёл. И сделал из Володи Воёдю не кто иной, как Слива. Они, будучи друзьями до гроба с детства, как-то вдвоём Новый год встречали — один на один без свидетелей. И в конце встречи чего-то поссорились, вспылив. И Володя (тогда он ещё был Володей) ударил сгоряча и спьяну Сливу по башке сковородкой, а Слива ответил Володе бутылкой от французского шампанского по зубам. И три передних зуба ему внутрь рта вышиб. После чего произношение у Володи смешно испортилось, и он начал при знакомстве представляться Воёдей. Что и стало его законной кличкой. И даже когда он зубы недостающие вставил у зубника, вернув себе часть дикции, кличка при нём пожизненно осталась. А ожог на башке у Сливы затянулся без вмешательства медицинской помощи, сам. Через какое-то определённое время бесследно.
— Может, и правда, крышу на хрен? — сказал Слива. — Видишь лестницу? Пожарную.
— Ну, вижу, — сказал Воёдя. — А труб нету. Должны ж быть на крыше трубы?
— Какие трубы?
— Какие… Обыкновенные.
— Пошли.
— Куда?
Слива без объяснений отвёл Воёдю на другую сторону крыши. Снизу донеслись шумы, и крики на родном языке. Наверно, какая-то семья разбиралась в своих внутренних делах и заботах. Возможно даже, с применением физических сил, держа окна настежь.
— Там лестница и тут тоже лестница, — показал Слива. — Это чтоб пожар быстрее тушить — с двух сторон. Понял?
— Понял.
— Ты спускаешься с этой стороны до площадки девятого этажа, я с той. Сверяем часы и точно в назначенное время прыгаем. Ну, как по команде, секунда в секунду. Понял?
— Понял. А как я узнаю, что ты прыгнул?
— Если не убьёшься — узнаешь. А если убьёшься, тебе будет без разницы.
— Не скажи.
Воёдя был согласен ради Светки убиться, но не узнать, убился ли ради неё Слива — не согласен.
— У меня часов нету, — сказал он.
— Чёрт, и у меня нету, — сказал Слива. — При себе. Дома есть. «Полёт».
— «Полёт»? — Воёдя заржал. — «Полёт» — это в тему.
— Ты не ржи, ты думай, что делать.
— Что я тебе, Герцен?
— Чернышевский.
— А?
— «Что делать?» написал Чернышевский.
— Да ты гонишь. Герцен написал.
— Чернышевский. А Герцен ничего не писал. Герцен декабристов будил. Или они его будили.
Спорить с умным Сливой Воёдя не стал. Но, похоже, и не поверил.
— Может, по очереди это? Прыгнем, — сказал он.
— Кто первый? Ты?
— На пальцах кинем. Или спичку потянем.
— На пальцах лучше, — сказал Слива. — Из трёх раз.
— Из пяти надёжнее. Чтоб уж точно, без обманов и случайностей.
— Да. Из пяти надёжнее…
— А ты с парашютом когда-нибудь прыгал? — спросил Воёдя. — В парке Чкалова.
— С вышки, которую в металлолом сдали? — спросил Слива.
— С вышки.
— Не, я высоты боюсь.
И угораздило же их в эту Светку влюбиться. Обоих. Прямо как сиамских близнецов-братьев. Но тут ничего не поделаешь. Угораздило, потому что, с одной стороны, говорят, Бог есть любовь, а с другой, любовь зла, слепа и беспощадна, как Фемида. Разит всех наповал без разбору.
— Может, завтра прыгнем? — сказал Воёдя.
— Ага, — сказал Слива. — Первого не прыгнули, потому что день дурака и смеха, вчера — потому что танцы, а сегодня чего?
— Сегодня? — Воёдя быстро подумал. — Так праздник завтра. Отпразднуем, яиц крашеных поедим — и прыгнем. У меня мать, знаешь, как вкусно яйца варит. Крашеные. Заодно всё лишний раз взвесим и проверим свои чувства.
— А ты что, ещё не проверил?
— Проверил.
— Тогда бросаем. Раз. Два. Три.
Выпало три-два в пользу Воёди. Потом три-два в пользу Сливы. Потом один-один, два-пять и пять-два.
— Ничья, — сказал Слива.
— Ничья, — сказал Воёдя.
— Стоп, — сказал Слива. — Мы ж не в очко играем. Надо считаться. На кого выпадет, тот прыгает.
— А с кого считаем, с большего или с меньшего?
— Бля, не договорились. Давай с меньшего.
— Давай. Но бросаем заново.
Бросили заново. Сложили. Вышло девять и семь — шестнадцать. У Сливы меньше. Посчитались. Выпало на Воёдю.
— Везёт, — сказал Воёдя. — Выиграл.
— Ну, пошли? — сказал Слива.
— Куда?
— На девятый.
Они переступили через низкое ограждение крыши и оказались на площадке пожарной лестницы.
— Смотри, какие-то мудаки с крыши лезут, — сказали в окне двенадцатого этажа.
— Может, воры опять?
— Не похоже. Наверно, сантехники.
Слива пропустил «мудаков» мимо ушей, сделал шаг к ступеньке, и площадка под ним бешено зашаталась.
— На хрен эту лестницу, — сказал Воёдя. — Она ходуном ходит, ещё сорвёмся.
— Тогда пошли на балкон.
Они вернулись к выходу на крышу. Кошка наконец испугалась людей, взвыла и рванула по кругу. Коты каруселью за ней.
— Твари мартовские, — сказал Воёдя и поискал глазами что-нибудь тяжёлое.
— Апрельские, — сказал Слива. — Идём.
Ощупью спустились в коридор. Прошли его из конца в конец, до мусоропровода. Отряхнулись. Свернули на лестничную клетку. Дошли до девятого этажа.
— Может, всё-таки с шестого прыгнем? — сказал Слива.
— С шестого лучше, — сказал Воёдя.
Спустились на шестой и опять прошли в конец коридора, к балкону. Подёргали балконную дверь. Она не открылась.
— Гвозди, — пальцами определил Воёдя. — Вот и вот. Самоубиться по-человечески, и то не дадут.
— Придётся идти на пятый, — сказал Слива. — Или на седьмой.
— На пятый, — сказал Воёдя. — Вверх топать скучно.
На пятом дверь балкона открывалась, слава Богу, свободно, и они в неё вышли.
— Не низко? — сказал Слива.
— Низко, — сказал Воёдя, — а что делать.
— Делать нечего. Прыгай. Только ты куртку расстегни и руки расставь. Чтоб спланировать. Как на крыльях.
— На крыльях любви, — сказал Воёдя.
— Шутник, — сказал Слива.
— Надо покурить, — сказал Воёдя. — Перед стартом.
Слива сказал «ты ж не куришь» и достал из кармана примятую пачку «Примы Люкс»:
— Кури.
— А ты? — сказал Воёдя. — Ты тоже кури. Ты ж сразу за мной прыгаешь.
Слива вынул из пачки ещё одну сигарету, надломленную. Найдя спички, потряс, как погремушкой, коробком. Закурили.
— Интересно, правду говорят, что вся жизнь пронесётся перед глазами, пока лететь буду?
— Вся нет. Сколько тут лететь.
— Слушай, а, может, это, вместе прыгнем? Взявшись, допустим, за руки.
— Не, вместе не годится. Много шансов на общий исход.
— Ты не умничай, говори по-нормальному.
— Ну, или гробанёмся оба, или выживем. И что тогда? Сначала начинать?
Сначала начинать не хотелось. Хотелось отстреляться уже, ну, то есть отпрыгаться — и будь, что будет…
Докуривали торопясь, без разговоров. Швырнули окурки вниз. Те сначала полетели по дуге, а потом ветер прибил их к земле под самую стену. Слива плюнул и проследил — не попал ли плевок в окурок. Не попал. Воёдя тоже плюнул. И у него не попал.
— Ну, я пошёл? — сказал Воёдя.
— Я за тобой, — сказал Слива.
— А не наебёшь? — сказал Воёдя.
— Чтоб я сдох, — сказал Слива. И сказал: — Подожди.
— Что?
— А кто тебе «скорую помощь» вызовет? Ну, если ты живой случайно останешься.
— Да. Кто?
Они задумались.
— Значит, делаем так, — сказал Слива. — Ты прыгаешь. Если не убиваешься, я бегу к Светке и звоню в «скорую». Потом возвращаюсь на балкон и тоже прыгаю.
— Годится. «Скорая» приедет и, если что, подберёт обоих.
— Ну, ты пошёл? — сказал Слива.
— Пошёл… А у Светки телефон работает?
— Вчера работал.
— А ты точно не наебёшь?
Слива мотнул головой. Воёдя в ответ кивнул, мол, верю, перелез через перила и сиганул вниз.
Летел он тихо, солдатиком, не орал и не трепыхался. Наверно, зажмурившись. Но до земли так и не долетел. И до мягких весенних кустов не долетел — повис на дереве, застряв в листве. Как шишка.
Слива посмотрел на его полёт с высоты, проводил взглядом и побежал к Светке. Звонить в «скорую». А прыгать он на бегу передумал. Окончательно и бесповоротно.
Дверь открыли Светкины мать и бабка. В лифчиках.
— Мне «скорую» вызвать, — сказал Слива, — ноль три. Воёдя с балкона прыгнул.
— Совсем обнаглели, — сказала бабка. — С балконов прыгают.
— Не пара они тебе, Светка, — выглянул из ванной Светкин отец. В трусах и в майке. — Сто раз говорил тебе, что не пара.
— Да ладно, — сказала Светка из комнат, — пускай вызовет.
Потом Воёдя приставал к Сливе с вопросом, как с ножом:
— Почему? Скажи, почему ты не прыгнул? Сволочь.
А Слива ему отвечал:
— Да передумал я прыгать. Пока бежал, пока звонил — передумал. Наверно, мне не судьба.
— Скажи ещё, тебя Бог отговорил и спас.
— Это скорее всего. Если, конечно, он есть.
— А меня кто спас? — спрашивал Воёдя.
— А тебя не знаю, — отвечал Слива, — тебя дерево.
К Светке ходить после Воёдиного полёта Слива прекратил сразу же. Имея всё-таки честь и совесть. Ну и потому, что она, Светка, дура.
Но и Воёдя, когда из больницы выписался — руку, ногу, два ребра и челюсть он себе всё-таки сломал, — тоже к ней почему-то не пошёл.
А Светка, коварная, всего этого не заметила. За ней в то время уже другой юноша ухаживал. И, может быть даже, не один.
2010
Юзом
Конечно, никто никому ничего не сообщил, никто никого не разыскивал. Видно, ни в чьи служебные обязанности это не входило. Дети её через какое-то время всполошились. Позвонили, а телефон не отвечает. И день не отвечает, и два. Приехали, дверь открыли — ключ у них запасной был на всякий случай — в квартире пусто. Тогда и стали искать. Звонить в полицию, по больницам и так далее. Ну, и довольно быстро нашли обоих. В больнице скорой помощи. В морге. Выяснилось, что с неделю назад ночью большую чёрную BMW понесло на гололёде юзом. Прямо на спуске к их дому. А они по обочине скользили. Держась друг за дружку. Вот их обоих и смело. Насмерть. Да там и сметать-то было нечего. Старичок совсем дряхлый, воздушный весь. Хотя и высоченный. Старушка, правда, покрепче. И главное водитель этой BMW был совершенно трезвым. Просто на обледеневшей горке с управлением не справился.
Участковый на поминках всё повторял: «А я их предупреждал. Говорил им, чтоб по ночам не шлялись. Я чувствовал, что чем-нибудь таким это кончится, чувствовал», — и выпивал снова. Выпивал до тех пор, пока было, что выпивать. За упокой, как говорится, душ человеческих.
Дети, надо отдать им должное, похоронили их рядом. Сначала посомневались, не без того. По бумагам был он их матери никто. Сожитель. Но много лет они сожительствовали. Очень много лет. И дети решили, что так будет правильно и что мать, если бы могла хотеть, хотела бы именно этого. А о нём они не думали. Что они вообще могли о нём думать?..
Её звали странно. Тем более для женщины. Всё-таки женщин Колями у нас не зовут. Отец хотел, чтоб жена родила ему сына. А родилась дочь. Но он был мужик упрямый, как баран. Сказал — значит всё, точка. Так, Колей её и записал в метриках. Несмотря на законное сопротивление сельсоветских властей. Записал, а сам через год помер. Не то подорвался на восстановлении народного хозяйства — он железнодорожником работал, — не то чем-то тяжёлым его на работе привалило. Точную картину смерти восстановить невозможно. За давностью лет. И девочку Колю стала растить мать. Самостоятельно. Жили они в деревне. Это сейчас туда город добрался и в центр восьмым автобусом полчаса со всеми остановками. А тогда была обыкновенная деревня в километре от железной дороги. Электричка, правда, там останавливалась. И жених по фамилии Ильин приезжал к Коле из города на этой электричке. Они гуляли по деревне под ручку. Целовались. На улице и в клубе. Она могла остановиться посреди танцев, стоять и смотреть на него снизу вверх. Потом сказать:
— Какой же ты огромный.
Он обычно вскидывал руку к виску и чеканил:
— Отдельная разведрота 103-й воздушно-десантной дивизии. Брно брал.
Деревня негодовала уже только оттого, что они её не стеснялись и не замечали. И вообще, вели себя так, как будто они одни на свете, и все остальные люди им ниже пояса. Местные хотели его от их девки отвадить. Но он выхватил двоих, поднял в воздух и говорит: «Лбами бить или не надо?» Выхваченные сказали «не надо». Он их вернул на землю, и вся компашка народных мстителей разошлась по домам. Опозоренная.
Погуляв по деревне, они заходили к ней в хату. И её мать выскакивала оттуда, как ошпаренная, и садилась на лавку под забором. Крестясь. А хата начинала ходить ходуном. Коля от любви орала так, что умолкали деревенские собаки. Сидели в будках и даже не поскуливали. К матери по одной подходили старухи. Стояли. Слушали. Качали головами. Потом спрашивали: «Ну что, — спрашивали, — опять»? — Мать вздыхала тяжело и ничего не отвечала. И сидела неприкаянно на лавке до самой ночи.
Когда в хате всё окончательно стихало, он выходил и уезжал в город последней электричкой. А если не успевал на неё, уходил пешком. И мать заводила свою шарманку: «Людей бы постыдились». Коля отвечала: «Чего мне их стыдиться? Я что, обокрала или обманула кого?» Мать не знала, как на это возражать. Даром что бухгалтерша. Твердила только: «Не по-людски это».
— А как по-людски? — спрашивала Коля.
— Пускай сватов засылает, пускай женится.
— Мама, ну какие сваты? Советской власти полстолетия. С гаком.
Но свадьбу они всё-таки сыграли. Потому что им и самим хотелось. Не так свадьбы, как жить друг с другом каждый день — с утра до ночи и с ночи до утра. И у них это в конце концов получилось. Правда, не сразу, не вдруг, а со временем.
Хотя свадьбу сыграли скоро, при самой первой возможности. Настоящую свадьбу. Как у людей. С белым платьем, чёрным болгарским костюмом и гостями. Ну, и с фатой. Несмотря на злые языки окружающих.
Единственное, чего на свадьбе недоставало — это родителей жениха. Он заранее Колю предупредил, что никаких родителей у него нет и никогда не было.
Коля говорила:
— Как же так? Без родителей людей не бывает.
А он говорил:
— Всё бывает. У меня в документах стоит, что в детдом поступил в ноябре 1949-го, в возрасте одного года. Про родителей там ничего нет, одни прочерки. И всё вот это — Илья Ильич Ильин — выдумано. Имя, фамилия, отчество — всё.
Так что всех родителей на свадьбе представляла мать Коли. В единственном числе. Но всё сделали хорошо. Поставили во дворе столы. Навес на случай дождя соорудили. Самогона выгнали три ведра плюс вино. Сосед пришёл — кабанчика заколол. И деревня после третьей стопки всё им простила. Нечеловеческие Колины вопли, и те простила.
К несчастью, ненадолго. Потому что на свадьбе жених выпил не как жениху полагается, символически, а примерно литр. Чтоб веселье душой лучше ощущать. И радость жизни. И что-то ему примерещилось. Что невесту слишком часто деревенские танцевать приглашают. Или чёрт его знает, что. Она не с ним всего два раза танцевала. С одноклассниками бывшими. Короче, отозвал он одного из этих танцоров на огород, как бы покурить, и через две минуты вернулся один. Никто ничего и не заметил. А утром танцора этого мёртвым нашли. С проломленной височной костью. Так что брачная ночь кончилась у них плохо. Трагически, можно сказать, кончилась. Ильин, конечно, отпирался руками и ногами. Пытаясь ввести следствие в заблуждение. Говорил, что я же жених, при невесте весь вечер состоял, все вам подтвердят, и тому подобное. Но и следы возле трупа нашли от свадебных туфель модельных, размер сорок шесть с половиной, и удар его научно вычислили. Во-первых, по ссадинам у Ильина на кулаке и на виске потерпевшего. А во-вторых, по силе и траектории. Никто в деревне с такой силой ударить не смог бы. Да ещё настолько сверху. Разве что кувалдой. Но кувалду на месте преступления не обнаружили. Таким образом, вина жениха была признана и в районной судебной инстанции, и в городской. И дали ему целых двенадцать лет. Сказали, что убийство умышленное и совершено то ли с особым цинизмом, то ли в особо извращённой форме — что-то в этом роде. На самом деле, конечно, дали так много потому, что танцор этот сыном секретаря райкома оказался. Секретарь, правда, лет десять назад, ещё не будучи секретарём, мать этого сына бросил. И давно жил, как положено, в райцентре с другой семьей. Но всё равно же сын. А сын есть сын. И секретарь есть секретарь.
В зоне, через год, Ильину ещё три года добавили, за побег. Причём за удавшийся побег.
Коля, увидев его, просто онемела от ужаса.
А он говорит:
— Не бойся. Меня выпустили. Честно. Иди сюда.
Мать тут же выскочила из хаты на лавку. Упав на неё почти без сознания. И вскоре сбежалась к ней вся деревня. Чуть ли не от мала до велика. Слушали, как орёт Коля и смотрели, как ходит ходуном хата. Ничего не говорили. Стояли молча. Только когда крики стихли, кто-то спросил: «Его что, отпустили?» Но ответить на вопрос было некому. Никто ничего не знал.
Крики возобновились с новой силой. И народ стал расходиться. Все понимали, что это надолго. Мать Коли взяла к себе переночевать старуха Сергеевна. И никто не видел, как под утро за Ильиным приехал милицейский бобик. Видимо, милиция тоже сообразила, что он к Коле прямиком прибежит. Куда же ещё. Там его и взяли. Тёпленьким и голеньким.
А лет через пять ещё один срок впаяли. По новому делу и обвинению. Десять лет. Он не любил потом рассказывать, за что, если спрашивали. Отмалчивался. Но по некоторым достоверным слухам он, узнав о разводе с Колей и о том, что она замуж вышла, просто взбесился, слетел с катушек, и ещё одного человека убил. Вернее, начальника. В рабочей зоне. Никто и моргнуть не успел. Ему кличку после этого дали — Бешеный. В результате, больше двадцати лет Ильин сроки свои отбывал по совокупности. Двадцать два, если точно. И пришёл оттуда диким каким-то. И страшным. Снял комнату. Жил один. На какие шиши, неизвестно. Люди его боялись. А он говорил: «Правильно боятся. На мне два жмура. И зоны двадцать два года».
Да, Коля с ним развелась. Ждала его в муках пять лет. Мучилась и от одиночества, и от безысходности. Привыкла она, что её любят. И без этого, видно, обойтись уже не могла. После смерти матери развелась, в одностороннем порядке. Советская власть это позволяла. И вышла в городе замуж. И двоих детей родила.
С мужем жила она, как большинство женщин с мужьями живёт. Без особых примет. Зато спокойно. И более или менее обеспеченно. Свыкнувшись потихоньку с ним и с его ежедневным присутствием в течение времени — со временем можно с чем угодно свыкнуться.
Муж звал её Полей. Дети — мамой Полей. Почему — он объяснить не мог. Язык у него, что ли, не поворачивался жену мужским именем называть. Или другие какие предрассудки им владели. Она не поправляла. Поля так Поля. Какая кому разница и какое кому дело. Так что ни дети, ни внуки её настоящего имени никогда и не слышали. Но её это почему-то не трогало. «Кому надо, тот знает», — думала она. А дальше — кому именно это надо — она не думала. Не хотела об этом думать и не думала. Жила, и всё.
Потом случилось у Коли несчастье. Муж ушёл из дому как обычно и не вернулся. Пропал. И нашли его случайно сантехники в канализационном люке. С проломленной височной костью. Конечно, первое, что сделали правоохранительные органы, взяли за жабры Ильина. Который ещё и года на воле не погулял. Но доказать ничего не смогли. Не нашли ни следов, ни отпечатков. Да и алиби у него было железное. Менты стали уже сами думать, что, может, не он это сделал. Но всё равно посадили. Раз уж на глаза попался. В отместку, что не доказали и что сам он не сознался в содеянном. Им, когда такие, как Ильин, под стражей содержатся, хлопот меньше. Хранение и торговлю наркотиками на него повесили. Изъяли под камеру кучу ими же принесённого героина. Дилеров прижали. И они дали показания, что дурь у Ильина оптом берут. Ну, и всё. В следующий раз вышел он только через восемь лет. Причём другим человеком вышел. Калекой, если вещи своими именами называть. С туберкулёзом, гепатитом и даже с диабетом. А к этому давление, сердечная недостаточность и прочие прелести. То есть хорошо с ним органы поработали. Нетрадиционными, так сказать, методами.
И Коля его пожалела. Дети к тому времени выросли, родили внуков, жили отдельно сами по себе. И в ней совсем не нуждались. В общем, пустила она Ильина к себе пожить. На реабилитацию. Наверно, в память о прошлом счастье пустила. И так сбылась, наконец, когдатошняя их мечта. Считай, двадцать лет они ещё вместе прожили, под одной крышей. Двадцать лет — это немало. Целая небольшая жизнь.
Как они жили, никто толком не знает, никто особо не интересовался, даже дети её. Не говоря о внуках. Те к ним и не заходили никогда. Но жили тихо. Совсем тихо. Ничьего внимания к своей жизни не привлекая. Это и соседи их отмечали. Ильин в больницу иногда ложился. Подлечиться. Она к нему каждый день приходила. Кормить. Он — почему-то всегда в больнице — у неё спрашивал:
— А помнишь, как ты кричала?
Она в ответ помалкивала, но улыбалась. Незаметно.
— Надо детям твоим рассказать. И внукам.
— Что рассказать? С ума сошёл?
— Как ты меня любила, рассказать. И как я тебя. А то они думают, что мы и не жили никогда и молодыми не были. Думают, что это только им дано.
— Не надо им ничего рассказывать, — говорила она. — Всё равно не поверят.
Он соглашался:
— Не поверят…
Подлечив, его из больницы выписывали, и они продолжали жить свой остаток жизни, как говорится, в мире и согласии. Он совсем с годами успокоился и, казалось, навсегда перестал быть тем Бешеным, каким его знали раньше. Только один раз за всё время их совместной жизни на него накатило. Всего один раз. Зато так, что чуть всю квартиру он не разнёс. И её чуть не прибил. Уже замахнулся. Но с поднятым кулаком замер, застыл. В позе памятника. Потом опустил кулак, стал на колени, обнял её ноги и уткнулся лицом в грудь: «Прости, — сказал тихо, — прости. Что с меня взять? На мне три жмура висит. Конечно, я бешеный».
— Всё-таки три, — сказала она.
И он заговорил. Чужой, не свойственной ему скороговоркой:
— Ты не думай. Я начальника удавил не потому, что ты со мной развелась. Не только потому. Мне вся зона спасибо говорила. Воры, мужики — все. Кум, и тот намекал, что на меня не в обиде. Садист он был. Тварь. Столько людей сгноил и на тот свет отправил… А на свадьбе — это водка. И… я не рассказывал… Этот одноклассник твой с шоблой встретили меня ночью. После того, как я их лбами не стукнул. С ножами. А этот вообще с ружьём. Ружьё я сразу у него вырвал и об него же обломал. Но от остальных еле ушёл. Как они меня не прирезали, до сих пор не понимаю.
Она слушала всё это. Слушала. Покачиваясь. А потом сказала:
— Ну, а мужа моего? За что?
— Прости, — сказал он и отпустил её.
Какое-то время Ильин стоял на коленях, касаясь длинными ручищами пола. Наконец, отполз и, хватаясь за диван, с трудом поднялся.
Простила она его или нет, спросить не у кого. Но не выгнала, не пожаловалась, не отвернулась. И жили они дальше, как жили. По крайней мере, внешне. День, ночь — сутки прочь. Летом в парк ходили, уток кормить и ворон. А зимой, когда темнело, выходили вместе из дому и бродили по микрорайону. Приоткрывали запертые форточки в подвалах. Чтобы бездомные кошки в морозы могли туда проникать и греться. А иногда и двери открывали запертые. Для людей.
2020−2021
Всё пропало
(почти порнографический рассказ)
Я стоял у кафе «Космос» и теребил руками свою наличность, как теребят чётки.
Этот «Космос» чудом сохранился от бывших времён. И ветры перемен, слава Богу, его не коснулись. Когда-то такие очаги общепита называли гадюшниками. А сегодня это единственное место в городе, где обычный человек из народа может по-людски выпить. И даже закусить мясными котлетами. И водка здесь, если брать не в розлив, а оптом, бутылку то есть — без всякой наценки.
Тут, у кафе, он ко мне и подошёл. Подошёл и сказал:
— Здоров.
— Привет, — сказал я.
— Не узнаёшь?
— С памятью у меня… Просто беда, — сказал я.
— Я Юрик. Пащенко, — сказал он. — В смысле, Конь.
Пришлось преувеличенно обрадоваться. Тем более денег у меня было маловато.
Юрика я не видел лет сорок. И помнил о нём лишь одно: у него был нечеловечески огромный… Огромное… Ну, в общем, член. Откуда и прозвище. Ни внешности его тогдашней я не помнил, ни кем он работал — ничего. А это помнил.
В моём детстве о выдающемся хозяйстве Юрика знали все, о нём шла молва и слава, о нём слагали легенды. А нам, друзьям младшего его брата ВитькА, посчастливилось видеть этот венец природы своими глазами, воочию. Витёк как-то сказал: «Хотите Юркину елду посмотреть? Я договорюсь». И договорился.
Мы пошли на брошенную ещё в начале войны стройку, которая почти двадцать лет с тех пор так и стояла. Называясь почему-то хап-строем. И Юрик там всё нам показал. Всё и во всех видах с подробностями. «Вот такой орган должен иметь настоящий мужчина», — сказал Юрик.
О своём любимом члене он говорил только «орган». Уважительно и пристойно. Без малейшей похабщины.
Со стройки мы вернулись подавленные. Узнав, чего лишены в жизни. Настоящими мужчинами нам не светило стать никогда.
Зато у Юрика от девок никакого отбоя не было. Иногда его сопровождали две, а иногда и три девки. Самых разных мастей, возрастов и форматов. А некоторые просто ходили за ним строем неотступно. Как за каким-нибудь тенором Козловским. И ещё я помню, что когда Юрик решил жениться — на ком, хоть убей! — невесту жестоко избили. Вроде бы его бабы, посчитавшие, что в одиночестве пользоваться таким чудом — это несправедливо и недостойно советской женщины. Юрик — им назло — всё-таки на избитой женился. Но что-то у них не сложилось. И жена скоро ушла к другому. А до ухода ещё и гуляла какое-то время направо и налево, чего совсем уже никто не ожидал.
— Какой у меня орган был, помнишь? — без подготовки спросил Юрик.
— Такое не забывают.
— Мне бы его сейчас. И мои двадцать лет в придачу.
«Он, — прикинул я, — лет на десять старше нас. Если нам было по двенадцать… А сейчас, выходит, ему под семьдесят».
— Смотрю порнуху, — продолжал Юрик, — и недоумеваю. Разве это органы? Это не органы, это просто… просто хуи какие-то.
Поддержать разговор — так, чтоб со знанием дела — я готов не был. Поскольку порнухой к моему сожалению не увлекался.
— Представляешь, какой бы я мог стать порнозвездой?
— Представляю.
— Мирового масштаба. А так растратил талант ни за грош. Всё равно что в землю зарыл.
Я молча, из вежливости, Юрику посочувствовал.
— Рано мы родились. Поспешили.
— Не от нас зависело.
— Не от нас… — Юрик переступил с ноги на ногу, опёрся поудобнее на свою палку. Потом сказал: — И почему у нас при социализме порнухи не было?
— При социализме не только порнухи, при нём вообще ни черта не было.
— Не было, да… — Юрик задумался: — Только что ты про это знаешь? Ты ж пацан. А я, между прочим, ровесник Высоцкого. Владимира Семёновича. И между прочим, день в день. Рождён двадцать пятого первого тридцать восьмого. Паспорт показать?
— Я ж не милиция, — сказал я. — Зачем мне паспорт.
— Пошли, выпьем, — сказал Юрик. — С горя. Я угощаю.
— Пошли.
— А деньги у тебя есть?
— Есть, — сказал я, — но на котлеты не хватит.
— Это я на всякий случай спрашиваю, — сказал Юрик. — У самого у меня тоже может не хватить. На котлеты. А с тобой — нормально.
В кафе Юрик поковылял к стойке со спиртными напитками, а я за подносом. Он купил бутылку, я две порции котлет и одну салата «Летний», то есть винегрета. Плюс, конечно, четыре хлеба. А горчица и соль на столах в этом кафе стояли свободно. Ешь, сколько хочешь. Сверх того, на сдачу кассирша дала мне карамельку. Вместо мелочи.
— Хлеба не много? — сказал Юрик.
— Нет, — сказал я и один хлеб густо намазал горчицей. И солью сверху посыпал. Слегка. Тут же на мой бутерброд села муха. И увязла в жёлтой горчице по щиколотку.
Пока я боролся с этой дурой и отделял место её посадки от остального куска, Юрик разлил.
— Стаканы вообще не моют, — сказал он. — Собаки.
— Водка дезинфицирует, — сказал я.
Выпили.
Я закусил хлебом с горчицей. Горчица ударила в нос и вышибла из глаза слезу. Я поковырял винегрет, добыл ломтик солёного огурца и заел им горечь. Юрик размашисто откусил от котлеты. И стал жевать. А к столу подошёл алкаш в тряпье. Обычно он входил в кафе и замирал у первого же стола с выпивкой. И там стоял.
— Вали отсюда, — сказал Юрик.
— Плесни ему двадцать грамм, — сказал я. — Я с ним за одной партой сидел.
Юрик посмотрел на меня, на алкаша. Алкаш, как только услышал слово «плесни», извлёк из тряпья личный стакан и протянул его нам в ожидании счастья.
— Я Коля, — сказал алкаш.
Юрик налил ему водки. Он быстро выпил. Из-за стойки вылетела продавщица. С криком.
Алкаш не торопясь спрятал стакан на себе и освободил помещение. А продавщица сказала:
— Ходит и ходит. Лишает людей культурного отдыха.
— А я тебя недавно по телеку видел, — сказал Юрик. — Потому и узнал.
— Меня уже лет пятнадцать по телеку не показывают, — сказал я.
А Юрик сказал:
— Да, время летит.
Выпили ещё. И ещё поели.
— Котлеты сегодня вкусные, почти «по-киевски».
— Меня тоже могли бы по телеку показывать. За большие деньги.
— Ну ты скажешь. По телеку порнуху всё же не показывают.
— А что по нему показывают?
— Не знаю, — сказал я. — Я телек не смотрю.
— В Америке, я слыхал, существуют специальные каналы, — сказал Юрик. — И кинотеатры. Тоже специальные. Да и у нас существуют. Не говоря уже в Интернете…
Выпили по третьей и доели котлеты. Оставив винегрет с хлебом напоследок.
— У тебя жена есть? — спросил Юрик.
— Да, — сказал я. — Вторая. А у тебя?
— У меня третья, — сказал Юрик. — А хули толку? Когда от них одни дочери. И у дочерей тоже. Дочери.
— Какая разница, кто.
— Разница простая. Сыну бы я передал всё лучшее, что имел. По закону наследственности. А дочерям это разве передашь?
— Разливай, — сказал я, — и пойдём. Пора уже.
Юрик разлил.
— Карамельку будешь?
Юрик взял карамельку, развернул и бросил тутошней кошке. Кошка карамельку понюхала, присела над ней и стала грызть.
— Пропала жизнь, — сказал Юрик и выпил. — Единственная, можно сказать, жизнь — и та пропала.
— У всех пропала, — сказал я, делая себе бутерброд с винегретом, а Юрик сказал:
— Это радует, — и погладил на прощанье кошку. Кошка даже не шевельнулась.
К остановке трамвая шли сосредоточенно. Шаркая и поддерживая друг друга на виражах.
Пожилые старухи улыбались Юрику пожилыми улыбками.
Юрик взаимностью им не отвечал.
2012
Красные колготки
Нона умерла неожиданно. То есть ну никто не мог от неё этого ожидать. Да и сама она явно не собиралась умирать, а собиралась припеваючи жить. Хотя бы потому, что буквально за три дня до смерти купила себе красные колготки с целью их носить. Может, не каждый день, но в конкретных торжественных случаях, вроде очередной их с Севой выставки — точно. Она художницей была, Нона. Как говорится, от ушей и до хвоста. И Сева, муж её, тоже художник. И у них должна была состояться выставка-продажа в одной культурной галерейке. Поэтому она и купила себе эти колготки, красные, как знамя, — чтобы выглядеть и привлекать внимание не только своими работами, но и собой в частности. А у неё ни с того ни с сего отказали почки.
Опытные врачи сначала вообще ничего не поняли: что с ней случилось и почему ей так плохо стало. А когда, благодаря современным анализам и всяческим УЗИ, причину установили, помочь уже не смогли. Хотя были уверены, что смогут. И она умерла. Несмотря на свои жизнерадостность и жизнелюбие. И на свою любимую присказку несмотря. Присказка у неё была такая: «Всё будет хорошо и очень хорошо». И Нона её часто повторяла. И последнее, что она в жизни произнесла вслух, была эта присказка. Она в себя пришла, увидела, что дочка старшая возле капельницы стоит и плачет. Ну и пошутила фразой из книги Корнея Ивановича Чуковского «Живой, как жизнь»:
— Девочка, — говорит, — по какому вопросу плачешь?
А потом дух перевела и добавила эту свою присказку. И больше уже до конца ничего не говорила. Только иногда, открыв глаза, ими смотрела.
И ведь буквально за час до этого врач сказал дочерям примерно то же самое. Что всё будет хорошо, сказал, и что сегодня можно смело идти домой, а завтра, если хотят, пусть приходят. Они отца отправили, а сами всё-таки остались. Не позволило им что-то спать уехать. Да и отец домой ещё не добрался, когда Ноны не стало. И вернулся после их звонка с дороги, опоздав и, значит, непонятно зачем.
И главное, выставка уже развешена по стенам и анонсирована везде, где только можно, включая прессу, а вместо неё, значит, совсем другое мероприятие надо организовывать — траурное. Слава Богу, кому-то пришло в голову, что никакое «вместо» тут не нужно и не годится и что всё должно идти, как задумано, и состояться в назначенное время в назначенном месте.
Поэтому все более или менее близкие знакомые прямо с кладбища поехали в галерею. На открытие выставки и помянуть Нону добрыми словами. И мать её с братом, вызванные издалека, тоже поехали. А всякие посторонние Ноне и Севе люди, знавшие их только в качестве художников, а не лично, просто пришли на выставку, как и собирались в этот весенний вечер. Ничего о смерти Ноны не подозревая. И хозяева галереи — с согласия и одобрения Севы — решили портрет Ноны в чёрную рамку не брать и не приписывать вторую дату к дате рождения в каталоге.
Ну, а остальное всё и само пошло, как обычно идёт на таких мероприятиях. Вначале речи галеристов, искусствоведов, коллег и друзей. Потом осмотр экспозиции, общение под живого саксофониста, вино, бутерброды, печенье и тому подобные яства.
В ответном слове Сева всё же обмолвился, сказав «мне тут говорят, крепись. А я думаю — столько лет всегда вместе. И в мастерской, и дома, и в поездках. Честно говоря, я не знаю, как я буду крепиться». Но основная масса ценителей живописи не поняла, о чём это он. И пропустила его слова с умным видом мимо ушей. А он о смерти Ноны больше ничего говорить не стал. И другие близкие не стали. Предпочитая говорить о чём-нибудь другом. Например, об актуальном искусстве. Потому что мёртвым всё равно, а живым так легче. Живым всегда легче говорить об искусстве, чем о смерти и мёртвых. Особенно если выпить дармового красного винца и закусить его дармовыми бутербродами замысловатого содержания и вкуса. Ну и, кроме того, о ценах на картины говорили. В основном, правда, хозяева галереи и те, кто пришёл сюда с целью что-либо приобрести себе в собственность. Для интерьера, допустим, или для частной своей коллекции, а то и просто ради поддержки ярких представителей творческого труда. И уже через полчаса хозяин шепнул Севе, что две работы Ноны ушли за хорошие деньги. И его одна тоже ушла. А Сева ему на это ответил:
— Ну, теперь наконец мы будем жить хорошо. — И добавил: — Можно подумать, что раньше мы жили плохо.
В общем, открытие выставки состоялось и прошло по заранее намеченному плану успешно. О чём написала популярная городская газета в разделе «Искусство и спорт». И о Ноне автор статьи отозвался как о талантливом живописце, и фотографию её поместил, найдя нужный снимок в личном своём архиве. Ещё и сокрушался, мол, как только умудрился не сфотографировать виновницу торжества непосредственно на мероприятии. Севу раз десять щёлкнул, а Нону упустил. И думал: «С выпивкой надо полегче, полегче надо бы с выпивкой. Как минимум на работе».
Мать Ноны, увидев эту фотографию из прошлого времени, опять плакать начала, а Сева наоборот. Сева сказал:
— И пойди, расскажи кому-нибудь после этого, что её нет. Когда вот она есть, и об этом даже в газетах пишут. Никто же не поверит.
Ему и самому не верилось, Севе, что же о других говорить. Потому оно всё так и покатилось — потому что не верилось.
Сначала эта вот выставка. Потом девять дней совпали с днём рождения Ноны. И Сева свои работы со стен в галерейке снял, а картины Ноны просторнее развесил, добавив многое из того, что в мастерской хранилось годами. И получилась своего рода ретроспектива. Хозяева были только за, поскольку продажи внушали им оптимизм. И, открывая эту сымпровизированную на скорую руку выставку, они сказали только — мол, к сожалению, сама художница среди нас отсутствует. И больше ничего не сказали и не уточнили. И всех это устроило, и опять всё прошло хорошо. Даже мать Ноны, которая ещё не уехала, чувствовала себя лучше и ни разу за вечер не заплакала. Дочерям, правда, казалось, что Севе как-то не очень, и они постоянно вертелись поблизости, опекая его своим присутствием и подбадривая. А Сева обнимал их — то одну, то другую походя — и говорил почти весело:
— Хорошо, — говорил, — что я в молодости не только картинки малевал, но и детей делал. А то от картинок иногда — никакого проку.
Дальше, как это принято у художников, торжество переместилось в мастерскую. Куда неожиданно нагрянула молодёжь — друзья дочерей и ещё какая-то, — и не с пустыми руками нагрянула, а с трёхлитровой банкой мяса, с пакетом всяческой зелени, с вином и лавашами. И выяснилось, что не только у Ноны сегодня день рождения, но и у одного из пришедших молодых людей. Естественно, Сева для именинников и их гостей собственноручно взялся жарить во дворе шашлыки, поскольку никогда и никому не доверял этой сложной мужской работы.
И всё было так, как бывало в этой мастерской всегда. Весело, людно и шумно. И Сева царил за столом, и рассказывал анекдоты про Путина, а также делился смешными воспоминаниями из своей личной жизни. И всем уже казалось, что ничего страшного не случилось и что Нона жива и здорова, и присутствует где-то здесь, среди остальных, в своих неотразимо красных колготках.
Ну, а потом потянулись обычные дни. Ничем не отличавшиеся от тех, что тянулись и месяц назад, и год, и три. И Сева жил так, как жить привык и умел. Рисовал свои картинки, ходил нянчиться, когда хотелось, с внучкой, рассылал знакомым найденные в Интернете интересности, выпивал. Опять же на экскурсию в Прагу съездил. По давно купленной путёвке. Должен был ехать с Ноной, а съездил с дочерью. И вернулись они аккуратно к сороковинам. Которые, как это ни странно, тоже совпали с днём рождения. На этот раз с днём рождения Севы. И он встречал приходящих словами: «Вы, конечно, будете смеяться, но у меня сегодня день рождения». Может быть, поэтому все и повели себя так, вроде пришли поздравить Севу, а не для того, для чего пришли. Хотя и это подсознательно помнили. Во всяком случае, пока пили первые три-четыре рюмки, помнили точно. А потом кто как. Кто-то, выпив должное количество спиртного, развеселился и забыл обо всех печалях, а кто-то нет, кто-то, наоборот, погрустнел и вспомнил. Наверно, поэтому самый старый и самый лучший друг Севы начал в какой-то момент веселья страдать откровенностью и сказал Севе с глазу на глаз в разговоре, мол:
— Я, — сказал, — понимаю, на людях вы решили делать этот вид, будто Нона есть. А как ты живёшь? Когда один? Без нас, без дочек? Может, я могу тебе чем-то помочь?
— Пошёл на хуй! — закричал вдруг Сева в лицо своему этому другу.
И так громко он это закричал, и так для всех неожиданно, что в помещении, набитом нетрезвыми людьми искусства, стало совсем тихо. И в этой тишине Сева куда-то исчез. Ну, а праздник, конечно, продолжился. Только уже без него.
2011
Антонина и вор
Опять, как говорится, вечер.
Кошка сидит под дверью, прядёт ушами. На лестнице кто-то шепчется. Фонарь освещает машину. Вокруг фонаря и машины ходит подозрительный тип. Снова не идёт снег. Сыро, темно и противно.
А в домах все уже спят. Пришли и, устав, уснули. Одна только Антонина сдуру не спит, а бодрствует. Потому что она смотрит в окно. И подозревает типа, думая в это время о главном: «С понедельника начну новую половую жизнь, — думает Антонина. — А то старая совсем прохудилась». «Да всё ты врёшь», — говорит внутренний голос в Антонине. «Клянусь, — возражает Антонина внутреннему голосу, — и: — Я, — говорит, — может даже, для верности имя сменю. Как мечтала в детстве, на Анастасия».
— Ну что же он вокруг моей машины ходит?
Антонина открывает окно настежь. Гардину вздувает ветер.
— Эй, — кричит она против ветра, ёжась, — вы вор?
Тип вздрагивает. Поворачивается на голос, находит окно с Антониной и кричит в ответ:
— Да. А как вы догадались?
— Задницей почувствовала, — хамит Антонина. И добавляет: — Небось, машины воруете?
— Небось, — кричит вор. — Я действительно специалист по угону машин.
Антонина думает, что никогда не начинала ещё новую жизнь с вором и специалистом по угону.
— Это моя машина, — кричит она. — Найдите себе что-нибудь более подходящее.
Вор смотрит на машину ласково, гладит капот перчаткой.
— Жаль, — кричит, — ваша машина мне как раз подходит. Такую, — кричит, — мне как раз заказали.
— А вы что, вор по заказу? — кричит Антонина.
— Конечно, — кричит вор. — А как же.
Антонина думает, что наверно, раз бывают воры по заказу, бывают и по вызову. Как девушки и сантехники. Она одно время работала такой девушкой. Но ей не понравилось. Сантехником Антонина тоже работала. На практике, когда училась в соответствующем техникуме. Ну, то есть колледже. Или, может, лицее.
Она хочет закрыть окно и защититься от ветра, который добрался уже до самых интимных мест. Но как тогда разговаривать с вором и оберегать машину от его дурного влияния? Антонина тщетно размышляет. Не вызывать же милицию. Или вызывать? Вор смотрит на Антонину и не уходит. А наоборот, подходит поближе. Видимо, чтобы не кричать в темноте наступающей ночи и не будить мирно спящих граждан.
— Вы красивая, — говорит вор.
— А то, — говорит Антонина.
— Замужем? — говорит вор.
Антонина вспоминает то умное слово, которое недавно узнала, и после паузы произносит:
— Де юре.
Вор пытается решить, что для него лучше — де юре или де факто. Решает, что один чёрт.
— И давно вы это де юре?
Антонина подсчитывает в уме и говорит:
— Ну, сошлись мы вроде на майские…
— Когда я слышу «сошлись», — перебивает её вор, — я сразу представляю себе Куликово поле.
— Чего-о? — говорит Антонина. — Чего вы себе представляете?
— Нет-нет, — говорит вор, — ничего.
— Между прочим, — говорит Антонина, — с понедельника начинаю новую жизнь.
— Я тоже давно подумываю, — говорит вор. — Начать.
— Тогда присоединяйтесь, — говорит Антонина.
— Сейчас! — радуется вор.
— Я сказала «с понедельника», — охлаждает его пыл Антонина.
— А сейчас что? — спрашивает вор.
— Сейчас ничего, — говорит Антонина — вечер четверга. Почти ночь.
— Да, — говорит вор, — и правда — не начинать же с вечера и ночи.
Но жить старой жизнью тоже теперь как-то глупо. И он стоит в свете одинокого фонаря столбом. И Антонина стоит, но у окна. Стоит и осознаёт, что окно открыто и что через него легко можно влезть. И её ограбить.
— А квартиры вы случайно не грабите? — спрашивает она у вора.
— Обижаете, — отвечает ей вор. — С моей-то квалификацией.
— Все такие обидчивые стали, — говорит Антонина, — даже воры.
— Почему «даже»? — говорит вор. — Воры вам что, не люди?
Антонина никогда над этим не задумывалась. Считала, что воры, они воры и есть. А люди они или не люди? Её это интересовало мало. То есть не интересовало совсем. Она даже прямые трансляции с похорон знаменитых воров в законе по телеку не смотрела. Скучно ей было. Всей стране весело, а ей скучно. Антонина вообще была не очень любознательной девушкой. Другие девушки в её возрасте многими вещами интересуются. Допустим, интересуются кино или культурой. Или, например, Востоком. Хотя бы ближним. Диким западом тоже многие интересуются. В Америке и Европе — чтобы там пожить. Она не интересовалась ничем. Совсем ничем. Ну, кроме личной и половой жизни, конечно.
— А вы не пробовали перестать быть вором? — говорит Антонина, чтобы не молчать.
— Как перестать? И кем же я буду?
— Ну, я не знаю. Бывшим вором.
— Бывших воров не бывает, — говорит вор. — Вор — это же не только престижная профессия, вор — это состояние души. Призвание. Да и не хочу я быть бывшим.
— Бывшим никто не хочет быть. Даже жёны, — говорит Антонина. И говорит: — А почему тогда все считают, что вором быть некрасиво?
— Всем не угодишь, — говорит вор.
— А очень хочется? — говорит Антонина.
«Послать её, что ли»? — думает вор, но не посылает.
— Да, — говорит, — по всей моей жизни и деятельности видно, как сильно мне этого хочется, и сколько сил я на это положил. И не только сил. И не только на это.
— Значит, вам нравится ваша жизнь? — говорит Антонина.
Вор на некоторое время задумывается. И видно, задумывается глубоко. Он вообще кажется Антонине излишне задумчивым. Наконец, отвечает:
— Как вам сказать. Жизнь, в сущности, дерьмо. Но что самое противное, приходится ею наслаждаться.
— Наслаждаться?
— А что делать? Другой же всё равно не будет.
— Ну почему? — возражает Антонина. — Мы же решили начать новую жизнь с понедельника. Думаете, не получится?
— Посмотрим, — говорит вор и подходит к своей машине. — Вас не продует?
Антонина думает, что да, обязательно продует, и говорит:
— Нет, не продует. А машина, — говорит, — у вас тоже ворованная?
— Опять обижаете? — вор говорит. — Купил я машину. Купил. На свои, заработанные деньги.
— Ну, извините, — говорит Антонина, — если что.
Вор извиняет. И говорит:
— Запишите лучше мой телефон.
Антонина берёт лиловую «Нокию» и записывает. Сначала домашний, потом мобильный. Потом звонит. В кармане у вора включается вибратор.
— Есть, — говорит вор. — Давайте, внесу вас в список. Вас как зовут?
— Меня Антонина. Но возможно, что и Анастасия.
Она фотографирует вора как бы шутя. Вор машет ей чёрной перчаткой. И садится за руль.
В общем, назначенного ею же понедельника Антонина дождалась с трудом. «Вот, — думала, — дура набитая, и чем мне четверг не подходил? Уже целых три дня и четыре ночи новой жизнью жила бы. В своё удовольствие». Но всё же как-то дождалась она понедельника. Дождалась. Несмотря на то, что её таки продуло. И надо отдать вору должное, он тоже дождался. Хотя мог бы повести себя неадекватно. И взятки бы с него были гладки. Как со всех не пойманных представителей его профессии. Но он ждал и дождался. И обязательно позвонил бы Антонине и пришёл бы на свидание к какому-нибудь памятнику или к ней самой лично. С цветами и конфетами. Если бы в него с утра пораньше, то есть очень не вовремя, не пальнули из красной БМВ. Вернее, пальнули из чего-то огнестрельного, а оно уже, в свою очередь, скрывалось от посторонних глаз и правоохранительных органов в БМВ. Вор к магазину подходил, кондитерскому, тут его и встретили прицельным огнём на поражение. За то, что он предоплату у клиента взял — ещё в четверг, — а заказ не выполнил. Безупречная репутация клиента, таким образом, пошатнулась в глазах партнёров по бизнесу, что повлекло за собой моральный и материальный ущерб. А за ущерб надо платить.
И раненый вор, конечно, упал в сугроб и притворился не раненым, а мёртвым. А контрольный выстрел убийцам из БМВ сделать не удалось, потому что у магазина сновали туда-сюда случайные люди и мешали работать. Сначала из двери вышел какой-то безумный старик в шортах и с животом по колено. Вышел, сел в трамвай и уехал. Следом за ним цель перекрыла длинноволосая с одной стороны девка. Вторая сторона головы была у неё чисто выбрита, и по ней стекали капли ледяного дождя. Тут же мелькнул в прицеле кто-то с собакой и с зонтиком, и в очках и кто-то ещё, и ещё. И БМВ безрезультатно постояла с риском попасть в лапы стражей порядка и буквально за полчаса до их приезда убралась восвояси, надеясь, что всё сделала хорошо.
А вор с ранением еле-еле покинул место происшествия, еле замёл кровавые следы ботинком и еле добрался дворами и огородами до дому.
Он влез из последних сил на второй этаж, открыл квартиру, в которой сразу же зазвонил телефон. Вор сначала подумал, что это его убийцы проверяют для порядка, не восстал ли он случайно из мёртвых, но потом безошибочно определил своим шестым чувством, что это Антонина, которая само собой разумеется, ничего не знает. И он снял, истекая на коврик последними каплями крови, телефонную трубку.
— Привет, — сказала в трубке Антонина игриво. — Что вы делаете сегодня вечером?
— Я? — сказал вор. — Сегодня? Кажется, умираю.
— А завтра? — сказала Антонина, предчувствуя счастье в личной жизни.
— А завтра, по-моему, вторник.
2013
К морю
Г. Р.
Вернулся я вчера поздно. Но у Вики всё равно толклись подруги. И в квартире стоял их шум. Увидев меня, подруги стихли. На полуслове. Как будто подавились.
Я оглядел компанию.
«Интересно, кто придумал эту глупость, что женщины бывают или умными, или красивыми? По-моему, неумные и некрасивые — очень даже распространённый случай». И ещё я подумал: «Нужно уходить в себя». В себе мне жутко, но тепло. А можно и не в себя.
Я позвал Лимона. И ушёл с ним гулять. В надежде, что со временем подруги как-нибудь рассосутся. Или испарятся.
Естественно, зашли в детское кафе-бар «Белочка». Мы с Лимоном любим это кафе и этот бар. Во-первых, название многообещающее, а во-вторых, там наливают. И мне, и Лимону. Мне коньяк, ему молоко с овсянкой. Мы там бываем довольно часто. И как я недавно узнал, Вика с Лимоном тоже там бывает. А со мной нет. Ну, да неважно.
К нашему возвращению подруги действительно исчезли, и след их простыл. Только запах дыма остался.
Подруг я недолюбливаю. Они курят в комнатах и меня рассматривают, думая, что я этого не замечаю. Но я замечаю. И когда их нет, мне хорошо, а когда ужин на столе — мне ещё лучше.
Вика вряд ли в это поверит, и всё же я люблю ужинать дома. И без свидетелей.
— Ты, конечно, ужинал в городе, — говорит Вика. Видимо, обижается за подруг.
— Я — нет, — говорю я.
— То есть ты хочешь есть, — уточняет Вика.
— То есть хочу, — говорю я.
Как только мы садимся за стол, во дворе начинает визжать женщина: «И не смей меня комментировать! — визжит она. — Слышишь!»
— Да, видно, дело серьёзное, — говорю я.
— Вечно ты иронизируешь, — говорит Вика, — а человек страдает.
— А нельзя страдать не так громко?
— Каждый страдает, как ему нравится.
Я хотел было спросить, как страдают те, кому вообще не нравится страдать, но тут Лимон поднял страшный хай.
Так он лает только на Козулина под газом.
И приходит именно Козулин и именно под газом. Мало того, он приносит бутылку бренди. С грушей внутри.
— Как груша попала в бутылку, — говорит Козулин, — я ещё могу с трудом додуматься. Но как эту закусь оттуда извлечь? Вот в чём вопрос.
— Бить или не бить?
— Ну. А представляете, сколько объёма она занимает. Ведь на её месте могло бы быть наше бренди.
— Лежит груша — нельзя скушать. Народная, можно сказать, мудрость.
Он стоит и вертит бутылку в руках. И о чём-то думает. Возможно, всего лишь о разнице в диаметрах груши и горлышка.
— Не падай духом, — говорю я. — Как-нибудь извлечёшь.
— Я не падаю духом. Я им встаю, — говорит Козулин.
Он оглядывает наш ужин и добавляет:
— Не жрите на ночь! Подумайте о тех, кто вас будет выносить.
— Почему наедаться на ночь нехорошо, — говорю я, — а напиваться — нормально? Что, от выпивки меньше поправляешься?
— От выпивки перестаёшь думать о том, что поправляешься. А от хорошей выпивки вообще перестаёшь думать.
Козулин в последнее время слишком много думал и передумал. В том смысле, что думал сверх меры до изнеможения сил. Как другие переедают или перепивают. В общем, перестарался он. И перетрудился. Но кто ему виноват? Нечего было шляться по всем митингам и пикетам, а также и шествиям, которые только проходили в городе. Нечего было сутками читать о них всё подряд, а также смотреть и слушать.
Я у него спрашивал:
— Зачем тебе это?
А он:
— Затем что я человек думающий. Думаю о нашем с тобой будущем и будущем наших детей.
— Вот и додумался, — говорю. — Отдыхай теперь. Тем более что и детей-то у тебя никаких нет.
— Да, всё, — говорит Козулин. — Спать. А уже завтра, на несвежую голову…
— Что завтра?
— Всё завтра. Всё. И дети в том числе.
Завтра начинается с того, что звонит сволочь-будильник. Звонит злобно и бескомпромиссно.
«Почему полдень и полночь существуют, — думаю я сквозь звон, — а вечер и утро наступают сразу, целиком? Где полвечер и полутро? Почему их нет?».
— Выключи будильник, — говорит Вика, — а то я повешусь.
— Ты только обещаешь, — мычу я.
Вика встаёт, берёт будильник и уносит. Но не выключает. Значит, он будет звонить, пока я не встану и не найду его где-нибудь на шкафу. Хотя на шкаф она его теперь не ставит. Туда я теперь не достаю.
Можно, конечно, накрыться подушкой, но это не поможет.
Будильник звонит всё громче. Так подло он устроен, так инженерно задуман.
А Вика заперлась в туалете. Причём в нижнем. Как будто трудно ей сбегать наверх. Значит, вставать смысла нет. Ждать своей очереди лучше лёжа. И я лежу. А будильник звонит.
«Этот от своего не отступит», — думаю я о будильнике. Потому я его и купил. У кого-то на нашей улице давно есть такой будильник. Года три назад мы уезжали в отпуск. Вышли часов в семь с вещами, слышим — будильник звонит. Вернулись через две недели — а он всё звонит. Тогда я и решил купить себе такой же. Нашёл и купил.
Да. А два последних года мы в отпуск не ездили. Как-то не до отпуска было мне. Не до отпуска.
Наконец Вика выходит.
— Вставай, — кричит она уже из кухни. — Сейчас догситтер придёт.
— Какой ещё догситтер?
— По объявлению догситтер. Или мы уже никуда не едем?
Я встаю. Перепрыгиваю в свою коляску. И в поисках будильника начинаю метаться по дому. С полуоткрытыми глазами. Будильник не находится.
— Где он? — ору я.
— Ищи, — отвечает Вика. — Быстрее проснёшься.
— А где Козулин?
— А что, на месте нет?
Я продолжаю безуспешные поиски.
Сон действительно отступает. Наконец я его нахожу у Лимона в углу. Гашу. И тут же звонят в дверь. Я прячусь в сортире, то бишь в ванной комнате. Вика отпирает.
— Вы догситтер? — спрашивает Вика.
— Да, — слышу неуверенный голос. — В некотором роде.
Быстро привожу себя в порядок и выкатываюсь из сортира, то есть из ванной.
От догситтера пахнет кошками. Так настойчиво пахнет, что Лимон нервничает. Подходит, обнюхивает его и нервничает. Догситтер смущается. Говорит:
— Если честно, я работаю бебиситтером. А догситтером не приходилось мне пока ещё работать. У вас, случайно детей нет? Вместо собаки.
— Детей? — говорит Вика. — Дети у нас, конечно, есть. Одно. Но сейчас оно у бабушки, а потом едет с нами.
Вообще-то, детей у нас не было долго. «Мне, — говорила Вика, — только детей не хватает». То есть она была не против детей, если бы они — вот не было, не было и вдруг появились. Но делать их после работы ночами, вместо того, чтобы спать, потом чуть ли не год внутри вынашивать, портя себе внешний вид, потом рожать и кормить грудью… «Нет, — говорила она, — на это у меня нет ни времени, ни сил, ни желания. Да и груди у меня, считай, нет. Одна грудная клетка».
— А чего от вас так кошками пахнет? — спрашивает Вика. — Лимон от вашего запаха нервничает.
— Так у меня дома три кошки живут. Вот и пахнет.
— Зачем вам так много кошек?
— Ни зачем. Приблудились они зимой. Постепенно.
— Тогда вам, может, стоит с кошками гулять?
— С кошками, конечно, лучше, — говорит догситтер. — Кошки гармонизируют мир. Но с кошками никому не требуется. Только с детьми, старухами и собаками. А кошки сами по себе гуляют. Хоть дома, хоть на улице. Кошки — животные самостоятельные.
Что делать, Вика не знает. Я тоже. Мы сомневаемся. И тут появляется заспанный, похмельного вида Козулин. В руках у него вчерашняя бутылка бренди. Груши в бутылке нет. Бренди — на дне. Откуда взялся он сам — неясно.
— Ты откуда? — спрашиваю.
— Сон, — говорит, — смотрел. Страшный. Захожу, — говорит, — в ЖЖ — а там никого. В Фейсбук — никого. Выхожу на улицу — и на ней никого. В трамвай, в троллейбус — аналогично. Иду домой — всё то же самое. «Надо, — думаю, — пока никого нет, сходить в ЖЖ. Или в Фейсбук». Захожу — а там никого.
Тут мне начинает казаться, что я просыпался ночью, и рядом со мной не было Вики. «Да нет, чушь, показалось».
— Тебе надо меньше сидеть в Интернете. Ты там уже не сидишь, а живёшь.
— У меня на работе есть девочка, — говорит Козулин, — её мать замужем за настоящим немцем. Зовут Клаус. Так девочка говорит: «У меня клаустрофобия». Вот она действительно живёт в Интернете.
— Ты издеваешься? — говорю я.
— Нет, — говорит Козулин. И говорит: — Пойду к людям, поживу активной общественной жизнью. Может, настроение улучшится.
— Это вряд ли, — говорю я.
— Ну, тогда в крайнем случае вернусь к вам.
— Оттуда не возвращаются, — говорит Вика и хочет вернуться к догситтеру.
— Тогда возьмите меня с собой, — говорит Козулин. — К морю.
— У нас машина трёхместная, — говорю я. — Ты не влезешь.
Козулин намёк понимает и уходит. А мы соглашаемся на этого догситтера.
— Погладьте Лимона, — говорит Вика.
Догситтер гладит. Лимон рычит. Вика говорит ему:
— Свой. Молчи.
Лимон замолкает, но смотрит на Вику презрительно.
— Так, — говорит Вика, — считаем, что вы знакомы.
— Вы уверены? — говорит догситтер.
— Лимон у нас умный, — говорит Вика.
— И большой, — говорит догситтер.
Они договариваются об оплате и графике работы, подписывают бумажки. Вика объясняет, как нужно Лимона кормить, поить и гулять. Затем объясняет, как не нужно. Даёт догситтеру ключи, и он тоже уходит.
— Слушай, — говорю я, — а ты часом с Козулиным не спишь?
— Приехали, — говорит Вика. — А вроде бы и не уезжали…
— Ну слава богу. Ты меня успокоила.
— А ты меня? Но обо мне ты, конечно, не думаешь.
— Думаю. Думаю я о тебе. Думаю.
Вика молчит.
— Лёшку бабушка привезёт или нужно за ним ехать?
— Ехать.
Я выкатываюсь во двор, открываю заднюю дверь своего Vito и нажимаю кнопку.
Из салона на землю опускается платформа.
Привычно думаю: «От, кляти нимци, умеют же».
Въезжаю по наклонной.
Убираю за собой платформу.
Дверь захлопывается.
Я проезжаю мимо правых кресел. Ставлю коляску на тормоз и защёлкиваю блокировки на колёсах. Пристёгиваюсь. Завожу мотор и выруливаю со двора.
Этот чудо-аппарат купили мне в Дойчланде Вадик с Толиком. За счёт фирмы.
Сказали: «Всем польза. Фирме снижаем налог на прибыль, ты — на колёсах. Отчего фирме же, а значит, и всем нам опять польза».
Я, честно говоря, растрогался. Прямо до соплей. На что Толик сказал: «Ну так мы ж твою мать компаньоны». А Вадик сказал: «Подельники».
Когда я приезжаю к бабушке, Лёшка уже носится по двору. Видит меня и орёт вместо здрасьте:
— Папа, ты инвалид?
— С чего ты взял?
— Говорят.
— Беги, скажи бабе с дедом, что мы уезжаем.
Лёшка бежит.
Недавно его дед рассказал, как Лёшка пришёл к нему и попросил двадцать баксов.
— Я, — говорит, — начинаю свой бизнес.
Дед дал.
Недели через две пришёл опять. Говорит:
— Могу отдать тебе часть долга.
Дед спрашивает:
— А что за бизнес у тебя?
— Покупаю в ларьке ящик пива, прячу в школьном подвале, потом продаю охранникам по бутылке. Всего вдвое дороже. Им же уходить с поста нельзя, а пива в жару хочется.
Дед говорит:
— Ты это сам придумал?
Лёшка говорит:
— Сам.
Тогда дед подумал и говорит:
— Не надо мне долг возвращать, пусть моя доля в твоём бизнесе крутится.
Почему он пошёл за деньгами к деду, а не ко мне, не знаю. Но пошёл к нему. А ко мне не пошёл.
Бабушка показывается в окне второго этажа. Я пригибаюсь и машу рукой перед лобовым стеклом. Она тоже машет мне, мол, пока.
Выбегает Лёшка, залезает в машину и садится справа.
— Пересядь подальше и пристегнись.
— Зачем?
— Пересядь и пристегнись.
Он пересаживается и пристёгивается. Ворча и гримасничая.
— И не гримасничай.
Лёшка всегда хочет сидеть на переднем сиденье, а я с некоторых пор всегда гоню его назад. Где, в случае чего, безопаснее. Видимо, это своеобразный инстинкт самосохранения. Когда в ДТП отец выворачивает машину так, чтоб она врезалась его стороной — потому что справа сидит сын — это тоже он, инстинкт, мне кажется.
— Пристегнулся? — говорю.
— Пристегнулся.
Мы выезжаем на дорогу, и перед заправкой меня, как в анекдоте, подрезает какой-то «Сеат». Ярко-цыплячьего цвета. Я въезжаю за ним на заправку, останавливаюсь рядом, опускаю стекло и спокойно говорю водителю всё, что о нём думаю.
— А ты выходи, разберёмся, — огрызается водитель.
Разблокирую колёса, нагибаюсь, беру монтировку.
— Папа, что ты делаешь? — волнуется Лёшка.
— Не бойся, — говорю я. — Главное — никогда не бойся. Оттого, что боишься — только хуже.
Я открываю дверь, опускаю платформу и выезжаю к «Сеату». Блатной его хозяин как-то теряется и сникает.
— Ну? — говорю я и приподнимаю монтировку.
— Да пошёл ты, — говорит он и лихорадочно уезжает.
— Так и не заправился, — говорю я.
Конечно, я могу объяснить большинство своих, даже самых странных, поступков. Но никому мои объяснения не нужны. Не объяснять же насильно.
А Вике я объяснил. Потому что она спросила. Как говорится, в сердцах: «Какого чёрта, — спросила, — ты прыгал?»
И я объяснил одним словом: «Испугался».
«Чего?» — спросила Вика.
Этого объяснять я уже не стал. Так как объяснение: «Испугался, что вы утонете, а я останусь без вас жить», — казалось мне безвкусным. Не зря Вадик и Толик попрекают меня моим вкусом.
«Ты не понимаешь, — говорит Толик. — Чем лучше у тебя вкус, тем тебе же и хуже. В смысле, противнее».
А до Хорватии всё было хорошо. Причём не только материально. Оно, в общем, и сейчас неплохо, но тогда было как-то слишком хорошо. И я уже понимал, что так хорошо быть не должно. Не положено. И всё ждал, когда же это хорошо кончится. Ну и дождался.
В Дубровнике, у каких-то кустурицких цыган взяли напрокат жопеля.
И поехали на север.
За рулём сидела Вика. Лёшка рядом. Я — сзади.
И у жопеля при въезде на набережную отказали тормоза.
Вика заорала. Я с перепугу толкнул дверь и с криком «прыгайте» вывалился на бетон, а машина полетела в воду.
За ручник Вика дёрнуть не додумалась.
Как Лёшка плавает, я не знал.
Прошлым летом научить его не удалось. Правда, весь год их класс водили в бассейн.
Сначала на мои приставания, научился ли он плавать, Лёшка отвечал: «Нет, но я уже плаваю лучше всех из тех, кто плавать не умеет». Потом, через какое-то время, твёрдо ответил: «Да». И: «Я, — сказал, — проплываю двенадцать метров». «А потом»? «А потом, — сказал Лёшка, — частично тону».
Вика плавает, как матрос. Но двери могло заклинить.
И я испугался.
И прыгнул с набережной.
А там высота метра три. Зато глубина меньше метра.
В результате на Лёшке и Вике ни царапины — даже подушки безопасности не сработали и не расквасили им носы, — а я, значит, в инвалидной коляске.
Спасибо подельникам — в прекрасной инвалидной коляске с моторчиком.
Оказывается, всё на свете бывает прекрасным. Инвалидные коляски и подельники тоже. Мало кто в это верит. Тут должно повезти. И, как говорит моя мама, на каждое несчастье нужно иметь счастье. Выходит, я его имею. Хотя направить свой чудо-аппарат под трамвай хотелось не раз. Когда долго терпишь, в какой-то момент всё-таки не выдерживаешь. Слава богу, близкие тебе сразу же объясняют, какой ты, гад, нетерпимый. Хотя я как раз терпимый. И терпеливый. Особенно по отношению к людям. Никогда не доверяюсь первому впечатлению. Не порю горячку. Всегда долго к ним присматриваюсь. Изучаю характер, повадки. Пытаюсь найти в каждом что-нибудь хорошее. И только после этого посылаю на хуй.
Ну, нетерпимый так нетерпимый. Близким виднее. Поэтому я просто с ними соглашаюсь. И опять терплю потихоньку. Терплю, хоть и понимаю, что нельзя терпеть бесконечно. Да оно и жить бесконечно нельзя. И помирать никому неохота. Но оказывается, после настоящего осознания того, что смерть неизбежна и придёт к тебе тоже, дата её прихода становится не так уж и важна.
А самый главный вывод, к которому приходишь с годами, это простенькая, в общем, поговорка: «Не так страшен чёрт, как его малюют». Если понимать её в том смысле, что всё (именно всё) не так страшно и ужасно, как поначалу кажется. Исключение тут одно — потеря близких. Если бы ещё можно было не думать о близких. В том числе и об остающихся. Близкие иногда сильно мешают. Вместо того чтобы помогать. Правда, время лечит. Так что о близких можно особо не беспокоиться…
А пока близкая Вика беспокоится обо мне. То есть о нас. Поэтому я ей не слишком завидую.
Наконец, подъезжаем к дому. Чемоданы уже стоят на крыльце. Вика сидит на нём же. Курит свою вечную сигарету.
— Куда это вы подевались? Несчастные, — говорит Вика, вставая.
«Нет, наверно, она меня всё-таки любит, — думаю я. — Иначе бы так не улыбалась».
— Может, передумаешь? — подходит Вика к машине. — И полетим самолётом?
— Не передумаю, — говорю я. — Доедем.
— Ну, ладно, — говорит Вика. — Лёшка, помогай.
Лёшка вылезает, и они принимаются таскать чемоданы. То есть таскает, конечно, Вика. А Лёшка пытается ей способствовать. Теперь у нас всё тяжёлое таскает Вика. А не я. Теперь её очередь. Таскать тяжёлое.
— Ты мои плавки не забыла? — спрашиваю.
— Плавки?.. Плавки не забыла.
Наконец, всё уложено и готово. И откуда-то возникает Козулин.
— Вам помочь? — говорит он.
— Спасибо, — говорит Вика.
— Ну тогда я у вас поживу.
Вика смотрит на меня. Я на Вику.
— Поживи, — говорю я. — Только не спаивай догситтера.
Вика и Лёшка садятся в машину. За ними влетает Лимон. Он скулит и взвизгивает, и лижет руки.
Вика говорит ему: «Лимон, домой». Лимон падает на живот и прижимается к полу ушами.
— Оставь его, — говорю я.
— А как же догситтер? — говорит Вика.
— Да хрен с ним, с догситтером.
— А хрен — это что? — спрашивает Лёшка, и мы трогаемся.
Лимон не верит своему счастью.
Козулин стоит и щурится.
Выезжаем на трассу и едем. И я начинаю думать: «А зачем мне собственно плавки?.. Плавки-то мне зачем»?
2012−2016
Мысль
Эта мысль поразила Гурьянова прямо посреди Бывшей улицы Ленина. На ходу. И он остановился, как вкопанный в тротуар столб. Чтобы мысль эту додумать до какого-нибудь логического конца. «Это что же, — стоя думал Гурьянов, — когда я иду по улице вниз, я в то же самое время двигаюсь от рождения к смерти? А если иду в другую сторону, то есть вверх, я всё равно иду туда же, в том же направлении? А что будет, если идти быстрее? Или медленнее? Или не идти совсем»?
Гурьянов стоял неподвижно, шевеля одними мозгами, а его обтекали равнодушные люди. Шедшие как туда, так и оттуда. Кроме того многие из них пересекали перекрёсток не вдоль, а поперёк. И думали они, судя по их лицам, хрен знает о чём. И было неясно, приходила ли им мысль, поразившая голову Гурьянова, хоть когда-нибудь, хоть однажды. Или они ни над чем таким не задумывались и задумываться не собирались.
Наконец Гурьянова кто-то толкнул в спину, сказав «ну чёбля торчишь тут, урод? Мешаешь проходу граждан», и он вспомнил, что очень спешит. К своей любимой девушке Стеше на любовное свидание. В смысле потрахаться. И, кстати, уже опаздывает. А Стеша этого не любит по причине своей точности и пунктуальности. И конечно, она спросит у Гурьянова с порога:
— Ну и где тебя, — спросит, — черти носят?
— Понимаешь, — скажет Гурьянов, — мысль меня настигла по пути к тебе. И я вынужден был задуматься.
— Как ты меня задрал, — нежно скажет Стеша, — своей задумчивостью.
— Но я же не специально, — скажет Гурьянов. И Стеша его простит за опоздание и мысли, как прощала всегда, и они перейдут непосредственно к их большой любви, в смысле, потрахаются.
Примерно такое развитие событий предвидел Гурьянов. Но Стеша на этот раз его не простила. Выставив на мороз.
— Потому что, — сказала, — сколько можно прощать? Я, значит, прощаю, прощаю, как последняя дура, а жизнь-то проходит. Не говоря уж о молодости и красоте.
— Именно, — сказал Гурьянов. — Проходит. Хоть вверх по улице Ленина иди, хоть вниз, хоть поперёк.
— По какой ещё Ленина? Её переименовали давно, — сказала Стеша. — В Бывшую улицу Ленина.
— Это неважно, — сказал Гурьянов, — неважно.
И ушёл. И стал продолжать думать. О движении живых тел сквозь пространство и время. В надежде постичь.
2020
ДЕДЫ ВОЕВАЛИ
(триптих)
Панорама
Очередь оказалась неожиданно длинной. С хвостом на улице. Для Германии такая очередь — редкость. И кого только в ней не было. Прямо перед ними стояли древний старик с мальчишкой лет шестнадцати, и если б не две палки с набалдашниками, старик бы не выстоял.
— По-английски говорят, — тихо сказала Алёна.
— Слышу, — ответил Казанкин.
Наконец, очередь подошла. Старик-англичанин купил билет. Кассирша спросила:
— Экскурсию брать будете?
— Экскурсию? — старик подумал и сказал: — Буду.
— Ещё три евро.
Он доплатил трёшку, и получил жёлтую ленточку на шею — опознавательный знак для экскурсовода.
— Почему ты купил один билет? — спросил мальчишка.
— Я пойду один, — сказал старик. — Подожди меня. Где-нибудь в кафе.
— Ты же один не можешь.
— Ничего, — сказал старик.
— Но я хочу посмотреть. Зря, что ли, летел?
— Не надо тебе смотреть.
Опираясь на обе свои палки, он двинулся в зал панорамы. Мальчишка пожал плечами, вышел и оглядел двор. Кафе в нём не было. Был туалет. «Ещё капризничает, — подумал он. — Ну да чем таскаться за девяностолетним дедом и следить, чтобы он не навернулся… Прадедушку, видите ли, надо уважать».
А Казанкину кассирша сказала:
— У вас студенческий просрочен.
— Забыл продлить, — сказал Казанкин.
Кассирша перешла на чистейший русский и сказала:
— Так я тебе и поверила, — но билеты выдала льготные.
— И экскурсию, — сказала Алёна.
Казанкин удивился, но промолчал.
— Шесть евро, — сказала кассирша и протянула им жёлтые ленточки.
Пока набиралась группа, они бродили по залу и рассматривали весь этот рукотворный ужас, вернее, его изображение. А набиралась она минут двадцать. Кроме англичанина в группу вошли шестеро. Старый немец со своею старухой — не такие древние, как англичанин, но всё равно, — немецкое же семейство — папа, мама, ребёнок — и бритый мужик весь в чёрном и даже в берцах. Алёна с Казанкиным перешёптывались, держались за руки и мимолётно целовались. Старик и старуха тоже держались за руки. Чёрный смотрел мрачновато. Ребёнок носился по кругу под гул моторов. Мама с папой пытались его унять. Говорили:
— Посмотри. Видишь, в развалинах дети. Представь, если бы это был ты.
Ребёнок отмахивался. Кричал:
— Это было сто лет назад. Ещё при ГДР, — и опять носился туда и сюда, изображая из себя самолёт.
Пришёл экскурсовод. Пересчитал жёлтые ленточки на шеях и начал рассказ. Обильно пересыпанный цифрами:
Немцы прижимали к себе своих женщин, глаза у женщин слезились. Чёрный время от времени произносил «шайсе"*. Алёна и Казанкин слушали молча. Англичанин тоже молчал. Немецкий он понимал, но плохо. Да и не слишком прислушивался. Стоял грузно, вцепившись в набалдашники палок, и медленно проворачивал тело вокруг своей оси. Не обратил он внимания и на то, что группы рядом с ним больше нет. Она перешла на новое место, к стене. Экскурсовод снова начал говорить, но старый немец приподнялся на цыпочках, потянулся пальцем к фасаду, оставшемуся от одного из домов, и сказал:
— Тут мы жили. Кажется, в этом доме. Или нет — в следующем. На месте вон тех руин. Под ними все и погибли. И мама с бабушкой. Все. Только я остался.
— А я родилась 13-го февраля, — сказала его старуха. — Каким-то чудом.
Экскурсовод сделал почтительную паузу. Похоже, он слышал тут что-то подобное уже не раз.
Полчаса он водил группу по кругу этого искусственного пекла. И говорил, говорил, говорил. Монотонно, негромко и снова цифрами, от которых уже мутило. Казалось, он читал молитву из цифр: 12 тысяч зданий, 24 банка, 640 складов, 31 гостиница, 26 трактиров, 18 кинотеатров, 11 церквей, 50 исторических зданий, 39 школ, 19 больниц, 19 почтамтов, 19 военных госпиталей…
Напоследок экскурсовод сообщил, что площадка в центре зала имеет три уровня осмотра. На самом верхнем создаётся эффект, будто вы парите над развалинами Дрездена. Группа вразнобой поблагодарила экскурсовода, кто-то жидко хлопнул в ладоши. Экскурсовод слегка склонил голову, сказал, что его ждёт следующая группа, собрал жёлтые ленточки и ушёл в сторону кассы.
Англичанин повернулся к Алёне:
— Вы говорите по-английски?
— Да, — сказала Алёна.
— Вы не поможете мне подняться?
— Без проблем, — сказал Казанкин, и они взяли англичанина под локотки.
— Вы русские? — спросил старик.
— Нет, — сказала Алёна.
— Поляки?
— Нет. Украинцы.
Старик кивнул, мол, слышал, и они начали подъём по лестнице. С передышками поднялись на один этаж. Старик отдышался и зашаркал по смотровой площадке. Через каждый метр он останавливался, люди перед ним расступались, пропуская, и он медленно всматривался в развалины. Казанкин с Алёной ходили следом и тоже всматривались. Сюда же поднялись остальные экскурсанты из их группы. Ребёнок уже не бегал. Спрашивал: «Кто сломал город?», — и: «Когда домой, мне скучно?»
Вообще, народу на площадке толпилось прилично. Многие пришли с биноклями. Видимо, людей интересовали детали. В любом кошмаре самое интересное — это подробности.
— Нет, — сказал старик, — нужно выше.
Алёна с Казанкиным помогли ему одолеть ещё один этаж. И остановились прямо над низко летящими птицами. Огромными, пёстрыми, попугайской расцветки.
— Они зоопарк тоже разбомбили? — сказал Казанкин. — Птицы какие-то экзотические.
— Ну да, экскурсовод говорил о Зоо, — сказала Алёна.
— Шайсе, — сказал чёрный, — шайсе.
С этого уровня зрители видели развалины уже немного сверху. Как будто из окон верхних этажей. И продолжали выть самолёты, и валил снизу нарисованный дым, и отблески какого-то вселенского пожара красили всех и вся в розовое.
Кто-то тронул Алёну за локоть.
— Что?
— Выше, — сказал англичанин. — Я хотел бы подняться выше.
— Можно и выше, — сказала Алёна.
И они начали восхождение на самый верх. Еле-еле, шаг за шагом, отдыхая чуть не на каждой ступеньке. Видимо, сил у старика совсем не осталось. Но он всё же достиг цели. Благодаря палкам. Благодаря Алёне и Казанкину. Благодаря своему английскому упрямству. К счастью, на верхней площадке была скамейка, и старик на неё рухнул. И откинулся на спинку. Тяжело отдыхая.
— Зачем вам нужно было сюда тащиться? — спросил Казанкин.
— Хотел увидеть, — сказал старик. — Я же не видел этого, — он повёл рукой. — Я видел только дым.
Вот и увидели, — сказал Казанкин.
А чёрный сказал:
— Гитлера на них нет.
Казанкин не стал вступать с чёрным в отношения. Тем более что Алёна пыталась вернуть старика в строй:
— Вы спуститься сможете?
— Не уверен.
— Может быть, вызвать «скорую»?
— Пожалуй.
Алёна потыкала в смартфон и приложила его к уху. И начала объяснять, что случилось, с кем и где. И наклонилась к старику:
— Как вас зовут?
Старик не ответил. Алёна взяла его за плечо. Старик начал заваливаться на бок и хватать ртом воздух.
— Кажется, он умирает, — сказала Алёна.
— Чёрт, — сказал Казанкин и отвернулся.
Он никогда не видел, как умирают люди и увидеть — боялся. Хотя признаваться в этом не хотел даже себе.
— Что с ним? — спросил чёрный.
Алёна промолчала.
— Шайсе, — сказал чёрный. — Всё шайсе.
Минут через пять приехала «скорая». Бригада засуетилась над стариком, и вскоре он глубоко вздохнул. Санитары уложили его на носилки и снесли вниз по ступенькам. Вкатили носилки в машину и увезли в неизвестном направлении с сиреной. Тут и появился мальчишка:
— Что там случилось? — спрашивал он по-английски.
Ему не отвечали. В очереди никто не знал, что там случилось. Видели только, как грузили в «скорую» носилки. А Казанкин с Алёной ещё на улицу не вышли. Они наткнулись у выхода из панорамы на кафетерий, взяли по чашке чая и пили его сейчас маленькими глотками. Чтобы согреться.
________________
* Scheiße — дерьмо
2015
Чисто немецкая покупка
Синий «Мицубиши-Галант» въехал на площадку автосалона и аккуратно припарковался. Дверь до отказа открылась. Из-под неё вылез так называемый канадский костыль и уткнулся в землю. Ковырнул её, нашёл положение поустойчивее. Затем над дверью показался седой до желтизны ёжик с проплешиной. Наконец, высокий костлявый старик поднялся во весь рост. Постоял, опираясь на костыль. Подышал. Сделал шаг назад, захлопнул дверцу «Галанта» и поковылял по площадке мимо стоявших на ней авто. На секунду задержался у самой дорогой машины, какая только здесь была — выставленного сегодня утром «Порша». Хозяин салона купил его не столько для немедленной продажи, сколько для солидности. Ну, и чтоб реальную прибыль в бухгалтерских отчётах уменьшить. Были лишние деньги, он их вложил в «Порш». Почему бы и нет. Тем более он почти точно знал, кто этот «Порш» купит, не сможет себе отказать. В небольшом городке торговец таким товаром обязан знать своих покупателей наперечёт. В лицо и по именам, и по-всякому. Старик взглянул на этого красавца лишь мельком, сделал ещё несколько шагов и остановился перед последней моделью «Мерседеса» S-класса. Мгновенно у него за спиной возник хозяин автосалона собственной своею персоной. Возник и почтительно затих.
— Не люблю этих нынешних автосалонов с фирменными знаками отличия, — сказал старик не оборачиваясь, — продают одни «Фольксвагены», одни «БМВ» или одни «Мазды». Скука.
— Я тоже сторонник разнообразия, — сказал хозяин автосалона. — Поэтому и продаю всё в широком ассортименте. Несмотря на веяния.
— Хорошая машина, — сказал старик.
— Хорошая — не то слово, — сказал хозяин. — S-класс — это S-класс.
— У меня были в жизни разные машины, — сказал старик, — но «Мерседеса» S-класса ещё не было.
— Вы многое потеряли, — сказал хозяин салона и переместился из-за спины старика в поле его зрения.
— Правда, «Мercedes Benz — 500К» тысяча девятьсот тридцать четвёртого года я…
— Какого года?!
— Ну, в общем, это не так уж важно.
Хозяин салона кивнул, мол, да, конечно, клиент может нести какую угодно чушь, лишь бы он покупал автомобили.
— Сядьте за руль. И вы сразу поймёте, как я прав, — сказал хозяин.
Он открыл дверь и помог старику сесть в водительское кресло.
— Нравится?
— Я, если можно, посижу, осмотрюсь.
— Почему же нельзя? Посидите.
Старик потянул дверь, и она мягко захлопнулась.
«Зачем такой развалине такая тачка? — пробормотал хозяин автосалона уходя. — Ещё убьётся или людей убьёт, ни в чём не повинных».
— …Да, «Мercedes Benz — 500К». Первая моя настоящая, что ли, машина. До неё я недолго катался на легкой «Audi-P». С мотором фирмы «Peugeot», объём тысяча сто двадцать два кубических сантиметра. Ничего агрегат, ездить можно. Но «Мерседесу» он не годился и в подмётки.
А «Мерседес» тот я купил не то чтобы новым — года три на нём прежний хозяин ездил, — но в очень хорошем состоянии. У одного богатого ещё совсем недавно еврея купил. Тогда у евреев уже никто ничего не покупал. Я тоже мог не покупать, сказал бы, что имею возможность лишь выставить автомобиль на продажу. И немного подождал. Он бы и так мне достался, тот «Мерседес». Естественно, я это хорошо понимал. И еврей понимал. Но я честно купил у него машину. Потому что всегда был честным человеком. И знал, что за удовольствия положено платить. Чтобы удовольствие ничем не омрачалось, оно должно быть целиком тобою оплачено. Это мне ещё покойный отец вдолбил. А та машина доставляла мне удовольствие. Настоящее, истинное удовольствие.
После внезапной смерти отца его автохаус мне остался. То есть не мне одному, а мне и брату. Но брат у меня был не по этой части. Он в университет собирался идти — кажется, на доктора учиться или на адвоката, — и машины его до глубины души не волновали. А меня как раз наоборот. И тот еврей все свои авто у нас обслуживал и ремонтировал, и на продажу выставлял. Потому и с «Мерседесом» ко мне пришёл, а не к другому.
— Хочу продать, — сказал. — Хотя бы недорого.
И я сразу же купил у него машину. Немного поторговался для порядка и купил. А сам он в тот же день или в ту же ночь, я не знаю, исчез, уехал. Скорее всего, в Америку. Денег у него было много. За одну машину он выручил столько, что хватило бы до Америки добраться. А он в своё время обладал ещё и другим ценным имуществом в магазинах и на фабрике. Так что и за еврея я почти спокоен, и его машина прослужила мне до самой войны. Да, сколько и каких минут провели мы на её заднем сидении с Роми! А поездка на Бодензее с Лиззи и Евой. Такое не скоро забудешь, если ты нормальный человек. Хотя, если честно, сейчас я никаких подробностей уже не помню, помню только, что поездка была и это была незабываемая, замечательная поездка. А как работал пятилитровый двигатель! Он работал, как швейцарские часы, а не как двигатель. Хоть бы раз подвел меня мой «Мercedes Benz — 500К». Хоть бы колесо у него спустило или бензин не вовремя кончился. Ничего никогда. Потому что «Мерседес» — это и в те времена была техника с большой буквы. Вот Роми давно спилась своим пивом, Лиззи пропала где-то без вести, а «Мерседесу» ничего не делается. Интересно, хватит у меня на эту игрушку сбережений или не хватит? Обидно будет, если не хватит. И машина достанется какому-нибудь молодому болвану, и сбережения пропадут.
Эх, если б мы не начали войну… Но тогда, как известно, мы начали именно войну. И я, чтобы выполнить свой долг перед отечеством, пересел на служебную машину. Это был «Опель-Капитан». С моим «Мерседесом» — никакого, ну просто ни малейшего сравнения. И я ни за что не пересел бы на «Опеля» по своей доброй воле. Даже если бы мне приплатили. А рейх меня пересадил в два счёта. И это была ещё удача — что он всего лишь пересадил меня с хорошей машины на среднюю. Мог бы послать куда подальше. Младшего моего брата, например, послали рядовым сразу на восточный фронт. И матери от него пришло всего одно письмо. С дороги. А я, значит, будучи автомехаником, принял новенький «Опель» и возил в нём герра оберста. По фамилии Васк. Как сейчас помню. Васк. Он всегда садился на заднее сиденье. Только на заднее, строго у меня за спиной. В целях личной безопасности. Место за водителем он считал самым безопасным местом в машине. До самой смерти возил я этого Васка. Его смерти. И потом я только и делал, что куда-нибудь на чём-нибудь зачем-нибудь ехал. Некоторые меня даже туповатым считали. Потому что я ничем, кроме автомобилей, не интересовался. Другие разные хобби себе заводили, а мне никакие хобби или увлечения не требовались. Нет, я тоже пробовал чем-то увлекаться. И многим даже увлекался. Девушками, например, увлекался. Правда, для юности это увлечение естественное, через него все проходят и всем оно со временем приедается. Теннисом настольным увлекался. Надоело. Политикой увлекался дней пять. Выпивал по воскресеньям в компании разных молодых людей. Это надоело тоже довольно быстро. И выпивать надоело, и компании разные, но похожие друг на друга, как братья или сёстры. Что ещё? В шахматы играл в клубе и в хоре пел. По-моему, тенором. Результат тот же, плачевный. Не надоедали мне только машины. Ни ездить на них не надоедало, ни ремонтировать их, ни покупать-продавать, ни говорить о них. Жена обижалась, мол, поговорил бы ты со мной о чём-нибудь. Только не о машинах своих, только не о них. А о чём с ней было говорить? С ней хоть о машинах, хоть не о машинах. Да и с другими тоже. И то, что я в восемьдесят третьем автохаус свой продал, не означает, что мне надоело иметь с машинами дело. Просто пенсия есть пенсия. Заслуженный отдых. И на отдыхе надо отдыхать, а не работать. Поэтому я и продал автохаус. И с тех пор только пользуюсь машинами для своего удовольствия, а ничего другого с ними не делаю, то есть не работаю с ними. Я своё отработал. Теперь могу садиться в машину и ехать не куда-то, а просто ехать, чтобы ехать. Чтобы наслаждаться самой ездой, ездой в чистом виде.
Много, конечно, прошло через мои руки авто. Сколько — не вспомнить никогда. Можно залезть в шкафы с документами. Там все чеки, все договоры на мои покупки в течение жизни подшиты. На каждый прожитый год — свой отдельный скоросшиватель. И бухгалтерия по автохаусу в полном порядке за всё время его существования — все копии всех бумаг. Копии потому, что оригиналы при продаже я новому владельцу передал. Да, можно в шкафах моих порыться. Но нет желания и нет сил этим заниматься. А без документов — не вспомнить. Я же всю жизнь, можно сказать, за рулём провёл. Спал иногда, и то за рулём. Не на ходу, конечно, но всё равно за рулём, с ним в обнимку.
А «Опель-Капитан» подорвался на мине осенью сорок первого года. Полковник Васк отправил меня отсыпаться впрок, так как нам предстоял суточный переезд. «Суточный — это как минимум», — сказал полковник. И поехал совещаться к командиру дивизии, посадив за руль водителя начштаба. И на обратном пути мой «Опель» наскочил на мину. Кто её там, у обочины, поставил, так никто и не узнал, не до того было в пылу наступления на врага. А мина, специалисты определили, оказалась нашей, родной. Меня даже заподозрили как соучастника преступления. На допросе следователь допытывался минут двадцать, почему за рулём сидел не я. Хорошо, полковник в присутствии трёх офицеров и своего ординарца спать меня отправлял. Они подтвердили мои слова, дав правдивые свидетельские показания. Не все, но подтвердили. Ординарец, дерьмо, сказал, что он лично ничего такого не слышал. Недолюбливал он меня. Потому что в мирное время он у меня работал, и я его выгнал — за лень и за тупость. А офицеры подтвердили. И им поверили. На то же они и офицеры, чтобы им верить.
Жалко, что я так мало на «Опеле» послужил. Неплохой был «Опель». Карбюратор только барахлил на холостых оборотах. Но карбюратор я уже имел новый, оставалось только найти время и его заменить.
Или это на другом «Опеле» карбюратор барахлил, а на этом бензонасос? Нет, всё-таки на этом. Конечно. Бензонасос — совсем из другой оперы песня. Бензонасос вышел из строя на грузовике, когда мы уносили ноги из Кракова, и я вёз какие-то бумаги. Целый грузовик, битком набитый бумагами. Это был «Форд» сорок третьего года. Фордовские заводы в Германии много грузовиков для нужд нашей армии выпускали. Но это не самая лучшая машина, которую я знаю. Нет, не самая лучшая. Майор (не помню его фамилии) махал тогда у меня перед носом пистолетом и кричал «я тебя сейчас расстреляю, поехали». А как ты поедешь, когда бензонасос не работает. В общем, остановили другой, такой же «Форд», с солдатами, сняли с него бензонасос, а солдаты пешком пошли отступать.
Что, интересно, с ними сталось? Они сразу отстали, и пыль дороги сделала их в зеркале заднего вида неразличимыми. Но что-то же с ними сталось. Тем более русские, как говорили, на нас прямо-таки наседали.
А в конце концов майор неплохим парнем оказался. Представил меня после этой поездки к железному кресту, и я даже его получил. Поносить почти не успел. А получить получил. Благодаря майору. Правда, злые языки говорили, что майор этот и его папаша-генерал продали в скором времени мой грузовик бумаг американцам, чтоб заслужить себе прощение и безбедную жизнь после войны. Но, может, и врали про них. Я не знаю. А крест этот, он и сейчас у меня где-то есть. Но сейчас я тем более его не ношу. Награды носят победители, а побеждённые их никогда не надевают. Ну, это, наверно, и правильно — не надо позволять, чтобы тебя побеждали…
Хороший «Мерседес». Ничего не скажешь, хороший. Вообще, «Мерседесов» было у меня два. В тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году я снова купил себе «Мерседес». А если точнее, «Mercedes — 220SE». Сто пятнадцать лошадей, особо точная система впрыска. Но больше никогда у меня «Мерседесов» не было. Даже не знаю почему. После войны я на старинном «Хорьхе» ездил какое-то время, потом снова на «Опеле», только на «Адмирале». Потом у меня была обновлённая «BMW-328», спортивная такая машинка, понимающие люди мне завидовали, когда я на ней проезжал. Прямо в открытую завидовали. Все, включая полицейских. Бывало, остановят, о том о сём со мной говорят, как будто по службе, а сами машину разглядывают. И в пятьдесят восьмом купил я, значит, «Мерседес». А после него… Что было после него? Был «Фольксваген», да. Тот, который потом называли жуком. Он тогда в большую моду входил. Но его я купил не сразу после «Мерседеса». Между «Жуком» и «Мерседесом» что-то еще было. И до «Мерседеса» тоже. После «БМВ». Что — не могу вспомнить. Прямо какие-то провалы в памяти. А «Жука» так называемого я довольно быстро продал. Потому что с ним неприятность случилась. И я его продал, чтоб он мне глаза не мозолил. Неприятно мне было. Как посмотрю на машину или сяду за руль, так сразу и вспомню картинку. Моя жена в машине — в каком виде, понятно — с этим наглым турком, у которого она покупала для меня чёрный крупнолистовой чай. К очень крепкому горьковатому чаю я привык ещё на войне и пил его по утрам до тех пор, пока врачи категорически запретили. Из-за сердца. Но жены к этому времени у меня давно не было. Жену я выгнал. Ещё раньше, чем продал злосчастного этого «Жука». А она потом, когда была уже не моей женой, купила себе другого «Жука», точно такого же, и врезалась на нём в столб. Машину всмятку расквасила, что называется вдрызг. Но ей самой жизнь врачи умудрились спасти. Только ходить она больше не могла. Из-за сложной травмы позвоночника. Сейчас-то её уже нет в живых. Жены моей бывшей. Лет двадцать пять, наверно, или тридцать нет.
Ну, а когда я без жены зажил, я, конечно, покупал себе всякие машины, просто почувствовать разницу. Возможности у меня были.
«BMW» покупал, «Ауди» нового типа. В тысяча девятьсот шестьдесят шестом году первую купил. Она как раз возродилась из пепла. После того как завод в Гэдээрии остался. Называлась «Аudi-1770». Семьдесят две лошадиные силы. Аппарат, между прочим, был что надо. А потом уже, со временем, «Ауди-80» я испробовал и «Ауди-100». Да, был ещё «Рено-21». Но это, кажется, позже, это, если память меня не подводит под монастырь, в восемьдесят пятом. Зачем-то я его купил, наверно, для пущего разнообразия. Здоровенный такой сарай с мотором 2,2 литра и жёсткой спортивной подвеской. Ну, а дальше уже всё я опять помню хорошо. Дальше я испробовал «Вольво», «Пежо», «Ситройен», «Фиат», «Тойоту-Карину», «Ниссан-Максиму», «Мазду 626» двухлитровую, три «Фольксвагена» — «Гольф», «Пассат» и «Бора» и что-то ещё. А, ну да, конечно. Ещё «Ауди». На этот раз «Ауди-6». В общем, старался не повторяться, но всё равно повторялся. В той или иной мере. Хотел было «Фордом» обзавестись, да раздумал. Чего-то я к нему после того грузовика предвзято отношусь. Купил вместо «Форда» «Хонду», которую сменил на четыреста шестое «Пежо». А закончил эксперименты нынешним своим «Мицубиши». На нём я уже больше года езжу. Даже не заметил, как столько времени прошло. Кажется, только вчера его купил, а прошло больше года…
Что-то боль опять разбушевалась. Прямо от низа живота нога болит. Надо таблетку съесть.
Старик полез в карман, порылся в нём пальцами и выудил упаковку с таблетками. Нажал на одну — фольга прорвалась — и положил таблетку в рот. Запить её было нечем. В бардачке «Галанта» лежала бутылка минеральной воды. Но пока до неё доберёшься. Он оглядел салон «Мерседеса».
— Хорошая машина. В такой машине и помереть приятно, не то что поездить.
— Закрываемся, — сказал возникший снова хозяин салона. — Извините.
— Сколько стоит этот «Мерседес»? — сказал старик.
Хозяин снял с лобового стекла бумагу.
— Вот же прайс и описание машины. Пожалуйста.
Сумма на бумаге выглядела вполне астрономической, но оказалась гораздо меньшей, чем старик ожидал. Как это ни странно. И он произнёс, почти не задумываясь:
— А тот «Порш»?
— Что «Порш»?
— Я говорю, сколько стоит вон тот «Порш»?
Хозяин оглянулся, посмотрел на «Порш». Снова посмотрел на старика.
— Сто шестьдесят две пятьсот девяносто.
Старик что-то прикинул в уме.
— А мой «Галант» за сколько возьмёте?
Хозяин вскользь взглянул на машину старика.
— Я не торгую подержанными машинами.
— Я вижу. Так сколько?
— Год выпуска…
— Начало прошлого года.
Хозяин назвал цену и «Галанту».
— Это грабёж, — сказал старик. — Добавьте ещё хоть пару тысяч.
— Тысячу, — сказал хозяин. — Честное слово, больше не могу. Тысячу.
— Впритык, — сказал старик.
— Что? — не понял хозяин.
— Нет-нет, ничего. Оформляйте.
— В кредит?
Старик поднял лицо и снизу посмотрел на продавца.
— А что, в кредит не продадите? Боитесь, что не успею выплатить?
Хозяин вроде смутился, но сказал, что не боится и что закон этот случай предусматривает, тем более что такие дорогие машины покупают только в кредит и не иначе.
— Не нужен мне ваш кредит, — сказал старик. — Я готов заплатить всё сразу.
2007
Солдатская кашка
Гуляли, как всегда, не на шутку. От Пасхи до Победы и потери сознания. Потом ещё дня три возвращались в себя.
Но руки всё равно слушались плохо — с перерывами и по очереди. То левая, то правая, то вдруг обе вместе. А голова не слушалась вообще. Голова утыкалась в подушку и пускала слюни.
— Алкаши, — стонал Бояров.
— Не пизди да не пиздИм будешь, — отвечал Головков.
— Хорошо, хоть Новый год не в мае.
— И старый Новый год тоже.
— А там, вблизи, ещё Крещение с морозами и Масленица с блинами, — говорил Бояров. — Ужас.
— Не говори мне о блинах, — просил Головков. — Противно.
Они лежали какое-то время, дыша. На большее не было ни сил, ни желаний, ни потребностей. А в соседней комнате, за дверью, лежал дед Головкова, тоже Головков. Лежал в параличе и маразме. Что в девяносто лет явление обыкновенное. В девяносто лет даже странно, если у человека нет ни паралича, ни маразма. А ему как раз столько и было. Деду. Даже больше. И несмотря на маразм, хотелось ему есть и наоборот. Хотя наоборот уже и не хотелось. Наоборот происходило без его волевого участия. А голод, как известно, не тётка, от возраста и маразма не зависит. И он деда мучил. И дед от мук этих стонал.
— Чего это он, — спрашивал Бояров, — стонет?
— Может, жрать хочет, — отвечал Головков, — или пить.
— Кстати, а пожрать у нас ничего не осталось?
— Жрать вредно.
Бояров этого не знал:
— А что полезно?
— Полезно поститься. Особенно по утрам.
— А сейчас утро? — спрашивал Бояров.
— Почему бы и нет, — отвечал Головков.
И они опять лежали. Слушая окружающую среду.
— Стонет, — говорил Бояров.
— Ничего, — говорил Головков. — Переживёт. Он блокаду пережил в окопах, орде-но-но-сец. А сейчас не блокада.
— А что сейчас? — лез с глупыми вопросами Бояров.
Но отвечать на них Головкову было скучно. Да и не знал он ответа. Помощнее умы, и те не знали и не могли понять, что сейчас. А Головков особыми умственными способностями не выделялся. И не только умственными. Он простым человеком был, Головков, незамысловатым. К тому же не дурак выпить. Уже лет двадцать как не дурак.
А дед был на нём целиком и полностью. Лежачий. Потому что жена Головкова — тоже Головкова — сказала: «Твой дед, ты за ним и ухаживай — опекун хренов».
Головков её стыдил и даже пиздил — мол, как в дедовой квартире жить, так дед общий, а как ухаживать за ним, так он мой.
— А где эти? — Головков не продолжил, но Бояров понял, что он говорит о жёнах.
— Может, на работе?
На эту глупость реагировать не стоило. И Головков не отреагировал. Тем более дед уже не стонал, а отчётливо произносил два слова: «Мишкаблядь» и «есть». «Мишкаблядь» — это Головков, а «есть» — это, понятно что.
И Головков превозмог состояние постпраздничного охуения и побрёл в кухню. Он смутно помнил, что несколько дней назад в дверь неожиданно позвонили. И оказалось, что это ветераны и школьники. Они принесли деду целлофановый мешок, спели ему песню военных лет и ушли. А мешок со жратвой и бутылкой Воронежского Шампанского оставили. Жратву, конечно, пустили в расход на закуску. Всю, кроме муки и круп. А шампанское за здоровье деда и за победу над Германией выпил из горла Баранов. После чего издал организмом трубный звук и сдулся.
Мешок, разорванный, стоял в холодильнике. Который опять не работал. Головков вытащил упаковку гречки, сказал «ух, ты, гречка» и начал её варить. Правда, без соли. Потому что соль кончилась. В процессе праздничных мероприятий.
— Сейчас кашки тебе сварю, — сказал Головков деду. — Солдатской.
— Пожиже, — прошептал дед. — Пожиже.
— Ну, это, как получится, — сказал Головков и вернулся к своим опекунским обязанностям.
Минут через двадцать кашка была готова.
Головков нашёл в раковине блюдце и обдал его струёй.
Положил несколько ложек варева.
Хотел угостить Боярова, но тот повёл носом и отказался.
— Как хочешь, — сказал Головков. — Моё дело предложить.
Когда каша остыла, он сел кормить деда.
Дед снимал кашу губой с краешка ложки, долго держал во рту и проглатывал. А последнюю порцию глотать не стал.
— Глотай, дед, глотай, — говорил Головков.
Но дед вздрогнул и заупрямился. Лежал с кашей во рту на подушке, не шевелясь.
— Боярыч, — крикнул Головков, — иди сюда.
Бояров покряхтел за стенкой, но пришёл.
— Почему это он кашу не проглатывает? Как думаешь?
Бояров посмотрел на деда внимательно и не ответил.
Откуда ему было знать — почему?
Он вообще этого деда впервые видел.
2015
И ВНУКИ ВОЮЮТ
(полиптих)
Любовная коллизия
Всю жизнь Верке снились подробные, цветные сны. По восемь часов в ночь. Когда она ложилась спать, муж говорил: «Верка легла кино смотреть». Но это бы ещё полбеды. Хуже, что, когда она влюблялась, ей начинали сниться фильмы ужасов. Нечасто, но снились. Примерно раз в неделю. И в этих фильмах она участвовала в главных ролях. В основном мужа своего вручную расчленяла. Вся в кровище. Муж расчленялся плохо. Сопротивляясь режущим предметам кухонного назначения. Просыпалась она после таких снов довольная, умиротворённая и вежливая. К тому же явно помолодевшая. Муж её в таком состоянии побаивался, был с нею покладист и предупредителен. А также трезв. Хотя это ему и не свойственно. Он вообще-то парень резкий. Военный одним словом, солдафон.
Паша — тоже военный и тоже не лыком шит. Он, влюбившись в Верку, сразу развёлся с предыдущей женой и перестал ходить на службу. Служили они далеко, в Сибири. Верка, надо отдать ей должное, ответно влюбилась в Пашу (так что ужасные сны ей снились не на пустом месте), но с мужем какое-то время не разводилась. И Паша вынужден был валяться в офицерском общежитии, печь в печке колобки к чаю и читать библиотечные книжки. Про войну и про любовь.
Его вызывало на ковёр командование, делало внушения, мол, семью разрушаете, товарищ лейтенант, после своей вторую. А Паша говорил: «На хер семьи. Люблю её, и всё. Увольняйте».
Верку тоже вызывало. Командование:
— Вы что ж это предательски изменяете мужу — офицеру ракетных войск и члену партии?
Верка говорила:
— А я не изменяю.
— А как же Буркин?
— Буркина я да, люблю, — говорила Верка. — Но мужу не изменяю.
— И как же вам это удаётся? — спрашивало недвусмысленно командование.
— Показать? — спрашивала у командования Верка и делала решительный шаг вперёд. После чего командование от неё на какое-то время отставало.
Общее партсобрание части также не могло понять и разобраться в этой любовной коллизии. Ну никак. И Пашу просто перевели в город, в другую часть. От греха подальше. Всего восемь часов езды. Для Сибири — это рядом. Они там как-то за корейской морковкой к празднику сутки на БТРе ездили, пока купили. Поэтому Паша приезжал, колотил в дверь к Верке, а Веркин муж его не впускал. Ругаясь одновременно с Веркой. Он говорил:
— Подумай. Хорошо подумай.
Она говорила:
— А что тут думать? Ты пьёшь. Мне надоело.
— Я пью? — говорил муж. — Да Буркин профессиональный алкаш. Особенно по сравнению со мной. И дед у него четыре раза был женат, а умер от цирроза печени.
Так это всё какое-то время и тянулось. Неопределённо. Верка оставалась у мужа. Паша добивался, чтобы его выгнали из рядов советской армии. Затеяв пока суд да дело небольшой бизнес. Он находил девку, подавал с ней заявление в загс и получал талон в магазин для молодожёнов. А тогда, в условиях тотального дефицита на товары ширпотреба, только там и можно было раз в жизни купить приличные вещи. Брачующимся с талоном из загса это позволялось. В остальных магазинах такое говно висело, что не поверите. Так вот, Паша набирал хороших шмоток на жениха и невесту, слегка делился ими с задействованной девкой, а остальные продавал втридорога. После чего приходил в загс с другой такой же девкой. А когда в конце концов они пришли подавать заявления с Веркой, им талона уже не дали. Сказали: «Знаем мы этого брачного афериста, он у нас постоянный клиент». И были страшно удивлены, когда Паша и Верка расписались. Да, в итоге они расписались. Несмотря ни на какие препятствия со стороны советской власти, советской армии и коммунистической партии Советского Союза. Паша таки смог уволиться из армии. За аморалку, но это не страшно. Потому что вслед за его увольнением и сама советская армия вместе с Советским Союзом накрылись медным тазом и кое-чем ещё.
И стали они — Верка с Пашей — жить-поживать душа в душу. Лет пятнадцать жили. Добра, правда, так и не нажили. Потому что Паша же, он алкашом всё-таки был, как ни крути. И до такой степени был, что Верке пришлось от него сбежать. И уехать с подругой на заработки в Польшу. Нелегально. Там она и обосновалась как-то на постоянном месте жительства. Видно, замуж преступно вышла при живом ещё Паше. Или ещё что-нибудь в том же духе. А Паша лет пять назад тоже нашёл себе постоянный заработок и своё место в жизни нового российского общества. Назло Верке и чтобы деньги ей посылать с барского плеча. Поэтому могла она и не уезжать в эту свою Польшу. Заработок нехитрый, но вполне приличный. Он же всегда стрелял отлично, Паша. На стрельбах после литра в пятак попадал. Из «Калашникова».
И всё у Паши стало хорошо и как нельзя лучше, в том числе и в материальном смысле слова. Боевые товарищи звали его дедом, любили и уважали. За почтенный возраст, за меткость стрельбы и за трезвость мысли в любом состоянии.
Правда, где он сейчас, в данный момент времени — неизвестно. Никто этого точно сказать не может. Командир его так Верке и написал в эсэмэске: «Пропал, — написал, — безвисти. Извенити».
2018−2019
Почём венок
В пять утра я высадил пассажира и поехал поспать. Как выяснилось, с выключенными фарами. Спасибо, кто-то встречный поморгал дальним светом.
Потом дома не оказалось хлеба.
Потом у меня намертво пригорела к сковороде яичница.
Потом выключили воду. Потом отопление, что естественно. А потом, уже днём, я увидел его. Увидел и прижался к обочине. Тем более тут мог образоваться клиент. Место людное.
Комод, лысоватый и потный, стоял у входа в платный туалет. В руках небольшой венок с ленточкой и вечная бутылка лимонада.
Вообще, кличка «Комод» от «командира отделения» произошла. Не только от габаритов. Тридцать лет назад габариты у него были скромнее. Особенно после ранений.
Иногда Комод поднимал венок к глазам и осматривал надпись на ленточке. Что-то поправлял. Делал глоток из горлышка. И снова стоял. Интересно, сколько он за свою жизнь выпил этого лимонада?
Я наблюдал за ним минут пять.
Кого он ждёт? Почему с венком? Может, Лёньку нашли?
Наконец, вылез из машины и подошёл:
— Привет.
Он посмотрел на меня сверху и сказал:
— А, это ты. Давно не виделись.
— Что ты тут делаешь? С венком у входа в сортир.
— Это не в сортир вход.
— А куда?
— Вернее, не только в сортир. Там, на втором этаже, большой магазин. А сортир на первом.
— Тогда другое дело.
Комод опять посмотрел вниз, но серьёзно я с ним говорю или нет, не разобрал.
— Кому венок?
— Венок? — он посмотрел на венок. — Венок никому.
Я взял пальцами ленточку и прочёл: «Дорогой дочери, сестре, жене, маме и бабушке. Помним, любим, скорбим».
— Универсально. Но, как минимум, женщине.
— Это женский вариант изделия. Хотя сейчас повышенный спрос на мужские.
— На мужские всегда повышенный спрос. Ты занялся производством венков?
— Да, новая тема.
— Фирма веников не вяжет, фирма делает венки.
Тут подошла злая, всклокоченная тётка и сказала:
— Почём венок?
Комод назвал цену. Тётка сначала открыла рот и малость поорала. Но в результате венок купила.
— Наверное, нужна другая надпись? — сказал Комод. — Я напишу.
— Не нужна мне надпись, — сказала тётка. — Так положу, без опознавательных знаков. Пусть думают и гадают, от кого венок. Пусть мучаются.
Комод сунул деньги в карман брюк. Глотнул из бутылки.
— На сегодня всё.
— В каком смысле?
— В смысле, товар распродан.
— Докатился ты, Комод, — у входа в туалет венками торгуешь.
— Не в туалет. В магазин.
— Торговал бы в офисе. Всё лучше, чем тут.
— Продал я офис. За долги.
— А бюро ритуальных услуг, которое за углом, не сдаст тебя ментам прикормленным?
Комод оглянулся. Понимая, что риск есть. А я подумал: «Такого сдашь. Тем более с бутылкой в руке».
— Подвезти тебя? Вон машина.
Комод взглянул на мой «жигуль» и улыбнулся, как умел улыбаться когда-то давно. У меня к крыше приделана пирамида. На ней, где обычно пишут слово «такси» и номер телефона, написано: «ТАКИ 7−40».
— Хозяин прикалывается, — сказал я. — Рабинович хренов.
— Ладно, механик, — сказал Комод, — подвези меня. Деньги есть.
— Деньги у него есть, — сказал я. — Миллионер.
Тронувшись, набрал диспетчершу.
— Люсь, — сказал, — я пообедаю и отдохну.
— Давай, — сказала Люся, — вызовов, считай, нету. Половина машин стоит.
— Закусить по пути не хочешь? Тут есть хорошая забегаловка. Для таксистов.
— Закусить? — он подумал. — Поехали ко мне.
— Это ты в гости меня зовёшь или как?
— Или как.
— Тогда обязательно надо закусить. Я перед тем, как идти в гости, всегда закусываю, а если не на работе, то и выпиваю.
— Не понял.
— Ну к людям я отношусь с недоверием. По-моему, ты меня учил не доверять никому. Нет?
Комод молча отвернулся. Терпеть не могу эту его манеру не отвечать, когда отвечать не хочется.
Как-то я орал ему в лицо: «Ты веришь? Ты мне веришь?» А он просто не отвечал. Просто подозревал меня в трусости и не отвечал.
— Не будем никуда заезжать. Вези домой.
Подъехали прямо к подъезду. И припарковались во дворике. Хромой мужик в спортивных штанах со штрипками затаскивал в подъезд мотоцикл. Семь ступенек крыльца он уже преодолел и разворачивал машину, чтобы протащить её в грузовой лифт.
— Привет, сосед, — сказал Комод.
Мужик кивнул.
Мы протиснулись мимо его мотоцикла. Я нажал кнопку обычного, пассажирского, лифта. Лифт спустился откуда-то с верхотуры и открыл двери. Внутри я спросил:
— Что он делает?
— Он его каждый день затаскивает. На десятый этаж.
— Зачем?
— Бережёт. У него ни жены, ни детей, один мотоцикл.
— У меня тоже ни жены, ни детей. Так что ж мне, свою «ладу» на третий этаж таскать?
— Да кому твоя «лада» нужна. Хотя… Я тут было отвернулся, лимонаду купить, так у меня три венка стырили.
«Покупаем головы для париков», — прочёл я пришпиленную к стенке лифта бумажку. Здесь же кто-то нацарапал: «В лифте не бздеть». О чём это? Тут ведь по-разному понять можно. Да оно и насчёт париков не очень понятно. Но парики меня не волнуют.
Услышав щелчок замка, жена Комода обернулась.
— Опять плакала? — спросил Комод.
Жена не ответила.
— Давай обедать. Видишь, у нас гости.
Жена посмотрела на меня, как будто впервые видела.
— Пить будете?
— Умеренно. Он за рулём.
В дальнем углу комнаты были аккуратно разложены ленты, цветки, листочки, проволочные каркасы и прочее. Жена Комода возилась с очередным венком. Штук пять готовых стояли у стены. Я взял венок в руки и стал разглядывать.
— Ручная работа, — сказал Комод, — с элементами оригами.
— Такие маленькие только в поминальные дни продают, — сказал я.
— Много ты понимаешь, — сказал Комод, а его жена сказала «идите».
В кухне на столе уже стояла бутылка водки и хлеб, лук, огурцы, колбаса. На плитке в казане что-то грелось.
— Мне пить нельзя, — сказал я.
— А мне можно, — сказал Комод.
— Тебе тоже нельзя, — сказала жена, — причём давно.
— Наливай, — сказал Комод.
Я налил:
— По чуть-чуть.
Комод посмотрел на меня нехорошо.
Я долил.
Выпили и закусили огурцами. Жена положила на тарелку жаркое и ушла в комнату. К венкам.
— Мне тут звонили… — сказал я.
— Да мне тоже звонили, — сказал Комод. — Лёнькин какой-то знакомый звонил — воевали вместе.
— И что говорил?
— Говорил, что мой опыт им на Украине нужен.
— А ты что сказал?
— Сказал, чтоб шли на хуй.
— И я сказал, чтоб на хуй.
— Одобряю, — сказал Комод и сказал: — Хреновые, видно, у них дела, если Лёньки им мало, если о нас вспомнили.
Звякнул дверной звонок. Жена открыла. Комод откинулся на табуретке и выглянул в прихожую.
— Кто там?
— Подружка Лёнькина, типа невесты. Наливай.
Я налил. После первой с Комодом уже не спорят. Только выполняют приказы.
— О Лёньке ничего не узнал?
— Нет.
— Слушай, а ты надень орден и сходи куда-нибудь. Наверх. Скажи так и так. Пусть ищут.
— Куда сходить?
— Ну, я не знаю.
— Ходил я. Куда я только не ходил.
— Ты ж без ордена ходил? Без. А теперь сходи с орденом.
— Хочешь, чтоб я и тебя послал?
— Не хочу.
— Тогда пей.
Я выпил полглотка. Комод ухмыльнулся. Я сделал ещё полглотка.
— Приснилась мне ночью, — сказал Комод, — больница. Зал человек на пятьсот. Все лежат рядом, плечом к плечу. Как вылезают из середины — неясно. Сбоку, у входа, дают пожрать. Рис, курятина, водка. Подходишь, берёшь, отходишь. Многие лежачие курят. Запаха дыма нет. Но всё равно кто-то нудит. Курящие не реагируют. Они вроде как раненые, с войны. Врачей нет. Других белых халатов тоже…
— А Лёньки ты там не заметил среди них? Лёньки.
Комод скользнул по мне мутным взглядом.
— Иди. А то уволят.
— Не уволят.
— Иди.
Я встал, заглянул в комнату, сказал женщинам «до свидания». И вышел на площадку. Попробовал вызвать лифт. Лифт не вызвался. Ни пассажирский, ни грузовой. Пошёл пешком. По заваленной шприцами и окурками лестнице. Вышел из подъезда. Осмотрелся. Машины не было. Её не было нигде. Я подошёл к домофону. Нажал.
— Чего тебе? — ответил из домофона Комод.
— Представляешь, — сказал я, — машину спиздили.
— И правильно сделали, — сказал Комод. — Пьяный за рулём — преступник.
2015
Возвращение домой
— Ой, — сказала Ольга. — Ты откуда? — и поправила на груди ночную сорочку.
— Я оттуда, — сказал Серёга. — Откуда ж ещё.
— Ну да, — сказала Ольга. — Ну да.
Она засуетилась. Забегала. На кухню, с кухни. Туда, сюда.
— Стой, — сказал Серёга.
Ольга остановилась посреди комнаты. И посмотрела куда-то в угол.
— А где кот?
— Машиной сбило. Выскочил со двора, и всё.
Серёга снял с плеча рюкзак и опустил на пол.
— Я тебя что, разбудил? Вроде рано ещё.
— Завтра на работу с утра — я и легла. Я — это, поесть. Быстренько. С дороги.
— Да не хочу я есть.
Есть он действительно не хотел. Потому что комбат на своём джипе ехал в Днепр. По каким-то делам. И взял их. Его и одного дембеля-срочника. Комбат у них нормальный мужик. Была возможность взять, он и взял не раздумывая. Ещё и накормил по дороге. В кабаке. Деньги у комбата, конечно, есть. Он целую пачку пятисоток из кармана достал, расплачиваясь. А какой бы он был комбат, если б у него денег не было. Так что Серёга есть не хотел. Он хотел выпить. Последнее время он постоянно хотел выпить.
— Давай лучше выпьем.
— Мартини, — обрадовалась Ольга.
— Чего? — сказал Серёга. И сказал: — Ночной киоск работает?
— Работает, — сказала Ольга, взглянув на часы. — Только сейчас он уже палёнкой торгует. Ты ж знаешь.
— А палёнка вам тут уже не выпивка?
Серёга вышел на улицу. Свернул за угол, постоял у киоска и, ничего не купив, пошёл к проспекту.
«Надо было всё-таки ей позвонить», — подумал он. Тем более сначала он позвонить собирался. Но потом пришёл нежданно-негаданно. Чтоб если что-то не так, понять и не тянуть кота за хвост. Глаз у него теперь — алмаз. Если б что-нибудь постороннее, он бы сразу заметил. И не такое замечал. Может, потому и вернулся оттуда целым, что замечал.
— Кота жалко, — сказал Серёга. — Суки.
На проспекте жизнь кипела, бурлила и била ключом. Всё вместе. Всё одновременно. Молодёжь слонялась по бульвару. Девки хохотали и висли на кавалерах. Кавалеры на ходу целовали их в губы и шеи. Девки не возражали. Там же, на скамейках, сидело население постарше. Дышало воздухом перед сном. Из ресторанов вырывались обрывки музыки. Город усиленно отдыхал.
«Сегодня у нас что? — подумал Серёга. — Среда». И ещё подумал: «Жить стало лучше, жить стало веселее».
Он пешком поднялся до горного института и через сквер, мимо собора, пошёл к парку Шевченко. Но тут же передумал и двинулся в сторону больницы Мечникова и Нагорного рынка. Пропустил в ворота больницы три подряд «скорые». Ещё две встретились ему у памятника танку. Они шумнули на перекрёстке сиренами и въехали за первыми тремя. В те же ворота.
Над входом в общежитие химтеха, в котором Серёга когда-то жил, висел плакат: «Українське студентство — майбутнє країни». Под плакатом толпилось человек десять негров. Серёга пожалел, что теперь вечер. Днём можно было бы их щёлкнуть и выставить в Инстаграм. А сейчас вряд ли получится. У него в телефоне камера хреновая. Так что новый магазинчик «М'ясо Халяль» он тоже фотографировать не стал.
«Телефон надо менять, — решил Серёга и стал было звонить матери. Набрал номер, вспомнил, что поздновато и дал отбой. — Позвоню завтра, — подумал он. — Или послезавтра».
Он рад был отложить этот звонок. Под любым предлогом. Опять выслушивать, что человек с фамилией Иванов не имеет права быть бандеровцем. Он всё это уже слышал. Ещё до того, как контракт подписал. И после тоже. Мать звонила Серёге чуть ли не на передовую, спрашивала, сколько он убил своих братьев. Серёга сначала тихо матерился, потом сдал телефон каптёру и звонки таким образом прекратил.
С Ольгой тоже говорить оттуда не хотелось. Нет, сначала желание такое было. А потом исчезло. Ну о чём говорить? Что рассказывать? Что спрашивать? Были бы дети, можно было бы спросить о детях. Но детей у них за восемь лет так и не образовалось. Врачи то в Ольге причину обнаруживали, то в нём. А то утверждали, что всё у них со здоровьем в порядке.
Серёга остановился у очередной кафешки. Толкнул дверь и тут же попал на скандал. Если он правильно понял, официантка принесла вместо «Чиваса» какую-то гадость. Пацан лет семнадцати орал ей, что это она не способна своей башкой отличить двенадцатилетний скотч от дешёвого бурбона, а он их и под общим наркозом не спутает. Официантка вяло сопротивлялась. Мол, что мне на баре дали, то я и принесла. Обращайтесь к бармену. И что ж вы почти всё выпили, если так легко отличаете?
Сев за столик, Серёга полистал меню. Но без внимания, для проформы. Заказал официанту сто пятьдесят водки.
— А закусить?
— Неси, — сказал Серёга, — два хлеба. Горчицей я их сам намажу.
Вернулся официант быстро. Он принёс водку в стакане и тарелочку с двумя кусками чёрного хлеба. На одном из них лежали три жирных, лоснящихся кильки и кружок розоватого лука.
— Закуска за счёт заведения.
Серёга сказал спасибо, попросил счёт и расплатился.
— Ещё десять процентов.
— Что? Какие десять процентов?
— Ну, мы же в Европу идём, — объяснил официант. — А там положено десять процентов чаевых давать. Я был — знаю.
Серёга прикинул в уме и дал халдею ещё десятку.
— На, — сказал, — европеец.
Он сделал большой глоток. И тут позвонила мать. Наверно, увидела в телефоне неотвеченный звонок.
— Серёга? — сказала она в трубку. — Я уже думала, ты в плену. Или без вести пропал.
Серёга нажал отбой и откусил от бутерброда. Мать позвонила ещё раз.
— Да, — сказал Серёга.
— Не смей бросать трубку и слушай, когда мать с тобой говорит!
Серёга выключил телефон.
Скандал тем временем улёгся. То ли виски принесли правильный, то ли чем-то другим пацанов угомонили.
Он допил водку, доел бутерброд и таки намазал второй кусок хлеба горчицей. Съел, вытер слёзы — горчица оказалась злющей — и вышел на Гагарина. Тут же перед ним возник мужик в камуфляже. В таком же, как он сам.
— Слышь, брат, — сказал мужик, — будь другом. Помоги.
Серёга посмотрел мужику в лицо. И сразу понял, что там он не был. Серёга не знал чем, но лица тех, кто вернулся оттуда, отличались от остальных. И своих он видел невооружённым глазом.
— А пиздюлей? — сказал Серёга.
Мужик исчез.
Серёга включил телефон, насчитал ещё три пропущенных звонка от матери и позвонил Ольге.
— Я скоро приду, — сказал он. — Ложись спать.
Он и правда собрался идти домой. Хотел только заглянуть по пути к школьному другу и, можно сказать, компаньону. Почему-то он не отвечал на его звонки. Серёга и на мобилку звонил, и на домашний, и в офис. Всё как об стенку горохом.
Полицейский «Приус» бесшумно подкатил сзади и прижался к бордюру.
— Погоди, — сказал мент в окно. — Дело есть.
Серёга остановился. Менты вышли из машины.
— Документы, — сказал один и принюхался.
Серёга сообразил, что документы остались в рюкзаке.
— Дома, — сказал он, — в рюкзаке.
— Мы так и думали, — сказал мент. А второй сказал:
— Придётся проехать с нами. Для установления личности. Заодно расскажешь, откуда у тебя форма.
— Зачем? — сказал Серёга. — Давай домой ко мне заедем. Тут рядом.
— Нашёл такси, — сказал мент и заржал. — Пьяный, пьяный — а соображает.
— Я документы покажу.
— А ну давай в машину! Козёл.
Серёга стоял спиной к «Приусу». И менты почти прижали его к двери.
— Минуту, — сказал он и стал хлопать себя по карманам. — Вот.
Он вынул из штанов гранату и выдернул чеку.
Менты, как по команде, побледнели и замерли. У одного из-под фуражки потёк пот.
— Садитесь вперёд. Оба.
Менты подчинились. А Серёга сел сзади.
— Рации, телефоны, оружие. Всё сюда. Только всё! Берём двумя пальцами и опускаем за спинки сидений на пол. Мне под ноги.
Менты приказ выполнили.
— Машину вести можешь? — спросил Серёга у потного. — Или штаны уже полны и руки дрожат?
— Попробую, — ответил мент.
— Ну попробуй.
Сначала Серёга хотел доехать до дому и показать им документы. Но неожиданно даже для себя сказал:
— На мост.
— Мост перекрыт. Ремонт.
— Ничего, проедешь.
И действительно, мент помахал рукой постовому, и тот пропустил их, не останавливая.
На проспекте Правды, который назывался теперь как-то иначе, Серёга сказал:
— Притопи.
Мент выжал сотню.
— Хорошо.
Перед выездом из города они беспрепятственно проскочили блокпост и выехали на пустую дорогу. Проехали километров пять. Может, больше.
— Стоп, — сказал Серёга.
Машина остановилась.
— Выходите.
Менты вышли. Серёга пересел за руль и медленно тронулся. Опустил стекло и швырнул гранату. Менты упали в грязь.
— Не ссыте, — крикнул Серёга. — Это муляж. Игрушка.
Он нажал до упора на газ и двинул в сторону Павлограда, в донецком, другими словами, направлении.
2017
И на том спасибо
Со станции Лёха приехал на такси. Как барин. Хотя идти там было километра три.
Отец и мать были уже дома.
— Чего не предупредил? — сказал отец вместо «здрасьте». — Я б встретил.
— Что я, дороги не знаю? — сказал Лёха.
Мать кинулась накрывать на стол.
— Есть хочешь? — спросил отец, чтобы что-то спросить.
— Не откажусь, — сказал Лёха и опустился в кресло. Кресло под ним заскрипело.
Отец тоже сел и попытался начать разговор. Но разговор не начинался. Наконец, он спросил:
— Как здоровье? Ты ж писал, ранение у тебя было. Зажила рана-то?
— Зажила.
Отец опять замолчал. Покряхтел.
— Надолго к нам? Или, может, насовсем?
— Посмотрим, — сказал Лёха. — Отдохну пока.
— Ну отдохни, — сказал отец, а мать тихо всхлипнула. Так тихо, что никто и не услышал. Наверно, от радости.
— Выпивать будем?
— Будем, — сказал отец. — Праздник у нас или не праздник?
Мать вынула из морозилки праздничную водку. Которая для гостей. Всё остальное уже стояло на столе. Только на плитке, на синем огне, булькало жаркое.
— Может, позвать кого? — спросил отец.
— Не хочу сегодня, — сказал Лёха. — Давай так выпьем. Без свидетелей.
— Ну как скажешь.
Они сели за стол. Приготовились.
— Мать, — крикнул отец в кухню. — Ну где ты там?
— Иду, — ответила из кухни мать, а Лёха взял в ладонь замёрзшую бутылку и медленно прочёл: «Путинкаблядь».
— Нашёл, что читать, — сказал отец, — наливай.
Лёха налил две стопки доверху и одну до половины.
— За мир? — сказал отец.
— Во всём мире, — сказал Лёха, и они выпили.
Мать тоже успела прийти и выпить с ними.
— Хорошая, — сказал отец.
— Пить можно, — сказал Лёха. — И не такое пили.
Они стали закусывать. Не торопясь, тщательно пережёвывая пищу. Хотя есть Лёха хотел давно.
— Винегрет вкусный, — сказал он, — маслом пахнет.
— Так с маслобойки масло, — сказал отец. — Из своих семечек.
Выпили по второй. Мать подала горячее. Ели и говорили о ерунде, ни о чём говорили. Но долго попраздновать в кругу семьи им всё же не удалось. Прознали в посёлке, что Лёха приехал. Наверно, такси кто-нибудь видел. И к ним прискакала кума. Удостовериться.
— Ой, — сказала, войдя, — Лёха вернулся. А я за солью. Нинка магазин заперла — корона у неё. И ковид.
— Сейчас дам тебе соли, — сказала мать и встала.
— Да сядь ты, — сказал отец. — У неё соли запас на две мировых войны. Выпьешь с нами?
— Выпью, — оживилась кума. — Да.
Мать принесла стопку. Тарелку и вилку тоже принесла. Отец налил.
— С возвращением, — сказала кума. — Крестник.
— Спасибо, — они чокнулись.
— Ты повзрослел.
— С четырнадцатого года все повзрослели.
— Офицером стал, — она взглянула на звёздочки.
— Лейтенантом, — сказал Лёха. — Ещё после училища присвоили. Давно.
— Ух ты, — сказала крёстная. И сказала: — Ну, я побегу?
Она ушла, как пришла, а отец сказал:
— Сейчас пойдёт по людям, языком трепать. Про соль и не вспомнила.
— Да пусть треплет, — сказал Лёха. — Нам скрывать нечего.
Они допили водку. И Лёха сказал:
— Пойду и я, пройдусь. По малой родине.
Он как-то неуклюже поднялся, и его сильно качнуло.
— Может, вместе пройдёмся?
— Да ну.
— Фонарик дать? Темнеет.
— У меня в телефоне есть.
— Всё у вас в телефоне, — сказал отец, — ну всё — за что ни возьмись.
Лёха вышел за калитку, закурил и двинулся по дороге. Навстречу ему никто не попадался. Совсем никто. И казалось, что посёлок пуст. «Вымерли они все, что ли», — думал Лёха и шёл дальше. Шёл, конечно, к Витьку. Куда ещё мог он идти?
В училище они поступили вместе. Но учился Витёк плохо. И на последнем курсе просто подписал контракт. Позже, когда Лёха тоже ушёл на контракт взводом командовать, они случайно встретились, но не поговорили. Витёк был пьяный. Или обкуренный. А потом Лёхе сильно не повезло. Два года по больницам. Так что больше они не виделись.
Мать Витька открыла дверь и пошла в дом. Лёха за ней следом.
— Здравствуйте, — сказал в спину, — тётя Стеша.
Она не ответила. А в комнате сразу спросила:
— Говорят, ты в офицеры вышел? В начальники?
— Лейтенант — не большой начальник, — Лёха говорит. — После училища всем присваивают. Лейтенантов.
— В Ростове, небось, служил?
Лёха подумал и говорит:
— Почти.
— Я была в Ростове, — мать Витька говорит. — Там у них спецприёмник.
— Ростов большой город, — говорит Лёха.
А она говорит:
— Я и в часть его ездила. Воинскую. В части сказали — на учениях. Столько лет учится, и всё никак.
Она вздохнула. Лицо сморщилось и постарело.
— А ты, значит, в Ростове?
— В Ростове.
— В училище, в лейтенантах? В Ростове? Сука.
Лёха растерялся и кивнул.
— А Витька нет. Не вернулся с учений. Ты из своего Ростова, — говорит, — почему-то вернулся, а он с учений почему-то нет.
Лёха не знал, что ей ответить и что делать дальше — не знал. Решил было уйти. Но до двери не дошёл. Остановился. Потоптался на месте. Обернулся кругом и начал подворачивать брюки. Сначала одну штанину, потом другую.
Она опустила глаза. И посмотрела на его ноги.
Хотела что-то сказать.
И раздумала.
Потом говорит:
— Ну хоть без ног. И на том, — говорит, — спасибо.
18.02.2022
Гадюшник
Из подъезда я выхожу на автомате. Иду сквозь каких-то людей. Они волнуются, галдят. Что галдят — разобрать не могу, так как в ушах шумит. И в голове тяжело. Иду я тоже тяжело. Но иду. Иду, как я понимаю, в наш гадюшник. Когда мне бывает нехорошо, я обычно хожу туда. А сейчас мне нехорошо.
«Гадюшник» — это название популярного заведения. Такой креатив. Внутри всё в славных советских традициях. В воздухе запах кислятины и сортира. Лица у завсегдатаев с просинью. Пиво щедро разбавлено.
Я покупаю кружку гадкого пойла, занимаю место в углу и делаю большой глоток. Выдыхаю. Делаю ещё один. И мне становится чуть лучше. Почему, один бог знает. Если, конечно, не врёт.
Возможно, меня успокаивает не пойло, а разговоры, витающие здесь под сводами. В гадюшниках всегда стоит гул из чужих разговоров. Разговоров, тебе безразличных. Это безразличие успокаивает нервы. И в голове слегка проясняется.
Конечно, тут же ко мне подходит какой-то мужик:
— Свободно?
Я говорю:
— Свободно, — и снова делаю глоток.
Мужик ставит свои кружки, достаёт из кармана вяленого бычка и замечает на столе лужу. Секунду думает. Потом промокает её рукавом.
— Всё закрывают, суки. Всё.
Он говорит так, как будто мы уже час с ним беседуем:
— Куда ни попаду, всё сразу закрывают. Понимаешь?
Я понимаю.
— Тубдиспансер — закрыли. Лечили меня там, не лечили — это другой вопрос. Правильно? Но я там лежал. А его взяли и закрыли. И куда мне?
Я реагирую слабо. Почти никак. Но мужику моя реакция и не нужна. Он, пососав хвост бычка, продолжает:
— Ну, я, предположим, выход нашёл. Нанялся на базар тачку катать. Продавцы ж на машинах привозят товар. К воротам. И его надо до прилавка как-то доставлять. Вот я его и перегружал с машин на тачку, товар их ёбаный, и вёз куда скажут. Каждая ходка — живые бабки. Ну, часть их, естественно, отдавал. Кому, говорить не буду. Не хочу подводить людей под закон. Они пошли мне навстречу в сложной жизненной ситуации. Вот им я и отдавал. И всё равно они меня с базара попёрли. Из-за моей болезни. О ней бы и не узнал никто. Но я мешок картошки резко дёрнул. И закашлялся. А тётка крови каплю у меня на губах увидела и как разорётся — мол, как! Тут люди с пищевыми продуктами сталкиваются и контактируют, а ты больной и заразный. А кто сейчас здоровый? Кто? Можно подумать, если меня на улицу выкинуть без прожиточного минимума, я перестану быть больным и заразным. А меня выкинули. Хотя работой моей были довольны и полностью удовлетворены.
Какое-то время он пьёт своё пойло. Грызёт бычка. Сплёвывает прилипшую к языку чешую и:
— После базара, — говорит, — устроился я в зверинец, клетки от говна чистить. Так зверинец тоже закрыли. Сказали, что зверей теперь мучить запрещено. Что теперь это неэтично и недостойно звания человека блядь. А меня с работы выгонять, значит, достойно. Интересно, куда их дели, зверей этих? Небось, усыпили на хер. Чтоб не кормить.
Мужик откусывает бычку голову и бросает местному коту. Кот обнюхивает её с отвращением.
— Не жрёт, — возмущается мужик, — пренебрегает. — И говорит: — Но я всем им назло нашёл в диспансере своё счастье. Не знаю, надолго или нет, но нашёл. Тем более счастье и не должно быть долгим. Счастье просто должно быть. Правильно? Хоть иногда.
Я не возражаю.
— Она малость ёбнутая, но хорошая. И умная. Бизнес вот организовала. В связи с насущными потребностями времени. Подрядилась по городу рекламу развозить. В том числе политическую. Получает её в типографии оптом и не в почтовые ящики бросает, а привозит на пикапе домой. А я уже сдаю макулатуру мелкими партиями. В приёмные пункты. И у нас двойной доход с этой рекламы получается.
Я покорно всё это выслушиваю, прихлёбываю жидкую бурду из кружки и вдруг говорю:
— А у меня, — говорю, — только что соседа взорвали.
Мужик ставит кружку на стол. Опять берёт её. Опять ставит.
— Может, — говорит, — утечка газа?
А я говорю:
— Может, и утечка. Но скорее, — говорю, — мина какая-нибудь, миллиметров на сто двадцать. Точно пока не знаю.
2020
Бабка
На самом деле тётке этой было лет сорок пять, не больше. Но с год уже звали её бабкой. Наверное, из-за совсем седой головы. К тому же была она малость того, бабка эта. Бродила по передку и приставала к бойцам с фотографией. Покажет и говорит:
— Нэ бачив такого? Снайпэром у вас робыть.
Мужики спрашивали обычно:
— Внук?
А она:
— Ага, ага.
— Шо, без вести пропал?
Она снова:
— Ага, ага.
Некоторые её жалели, а иногда и подкармливали. Кто колбасы кусок даст, кто хлеба, а кто и сигарету пожертвует. Это, правда, реже. Сигареты здесь денег стоят. Потому что в основном с украинской стороны доставляются. Контрабасом. С опасностью, так сказать, для жизни и смерти. Кстати, подкармливали бабку больше местные. Русские на её мову отвечали: «Иди, бабка, иди». И она шла. И опять находила кого-нибудь, чтобы показать фотографию и спросить:
— Нэ бачив такого?
Ходила она долго. Вокруг да около. Пока один русский не глянул мельком на фото и не сказал:
— Жора это. Болт.
— Снайпэр?
— Снайпер-снайпер. Вон он, в кустах дрыхнет.
Бабка подошла к спящему. С фотографией сверилась. Потом достала откуда-то из ватника кухонный нож, размахнулась и ударила.
Нож звякнул и никуда не вошёл. Как он мог войти в бронежилет? А Болт, конечно, со сна в бабку пальнул. Чисто автоматически и не насмерть. В рамках самообороны. Пальнул, осмотрел место происшествия и говорит:
— Интересно, — говорит, — откуда у неё моя фотка?
— А ты больше в Одноклассниках подвигами своими хвастайся, — кто-то ему отвечает. — Отличник боевой и политической подготовки, блядь.
2019
Метакса военного времени
После второй бутылки «Метаксы» Лидахин начал слабеть. Но будучи единственным в компании мужчиной, держался. И ухаживал из последних сил за дамами. Дамы его подбадривали:
— А как ты, — говорили, — думал. Это тебе не в гараже бухать. Тут уметь надо.
Лидахин не возражал. Возражать ему не хотелось. Язык и молча ворочался плохо. А на окне стояли ещё две бутылки. Непочатые. И Лидахин при их виде слегка бледнел от предчувствий. «Акция, что ли, была на «Метаксу», — думал он. Впрочем, пилась «Метакса» легко. Во всяком случае, женщинами. А он, конечно, уже тяжеловато переносил такие дозы, хотя закуски хватало. Собственный «почти полтинник» всё-таки чувствовался.
— Зачем ты меня сюда притащила? — спросил Лидахин Олэну. Спросил тихо, так, чтоб никто не слышал.
— День народження, — сказала Олэна. — А ты ж мій кавалер.
— А чего мы без подарка?
— Подарунок дівчата купили.
— Наливайте, — сказала соседка Лидахина слева. — Что это вы за нами не ухаживаете.
Лидахин встрепенулся, помолодел и галантно налил. И веселье опять покатилось. Становясь всё хаотичнее и громче. Больше всего шума исходило от девушки, сидящей напротив. Вернее, это был не шум, а крик. Криком она говорила, мирно беседовала. И Лидахину очень хотелось спросить у неё: «Чего ты орёшь»? Но он не спрашивал. Терпел.
Кто-то уже начинал «Ой у лузі калину». Кто-то говорил, что лучше танцы.
— Без мужиків? — спросила именинница. — А сенс? — и все посмотрели на Лидахина.
Олэна тоже на него посмотрела, выпила и сказала:
— Нам пора.
Её стали отговаривать, обещали вызвать такси. Но она встала и слегка толкнула бедром Лидахина. Он тоже поднялся.
Начали прощаться. Долго и подробно. С поцелуями.
— Чего мы сорвались? — спросил Лидахин на улице.
— Знаю я їх. Та й тебе вже знаю, — Олэна взяла Лидахина под руку и сказала: — Не хочу додому. В бар хочу.
— А я не хочу ТЦК стріти. И вообще, закрыты уже все бары.
— Та ладно! — сказала Олэна и пошла вперёд.
— Ну что, — сказал Лидахин в баре, — «Метаксы»?
Олэни показалось это смешным. И она захохотала. Бармен смотрел на неё кисло. Ждал, пока отхохочет.
— Мені мартіні. Тільки щоб холодне і з лимоном.
— А мені «Метакси», — сказал Лидахин и набычился.
Людей в баре было много. Бармен жонглировал посудой, как в цирке. Посетители то выпивали, то шли в кружок и топтались под музыку, пытаясь попасть в её такт. Лидахин с Олэной делали то же самое.
— Который час? — спросил Лидахин.
— Час комендантський, — ответила Олэна. — І вже давно.
— А насрать, — сказал Лидахин и сказал: — Устал я. Пошли домой.
— Ні, — сказала Олэна, — вертаємось. Я сумку свою забула.
Дамы встретили их восторженно. Хором взвизгнули и спели туш.
— Ви б ще гімн радянського союзу заспівали, — сказала Олэна. Потом сказала:
— Я сумку забула.
Сумку обещали найти. А пока налили ей и Лидахину. И стало понятно, что их не отпустят.
«Лучше бы мы ушли, — думал Лидахин. — Хоть бы потрахались».
Олэна думала примерно так же. Но уйти им не удалось.
Лидахин отметил, что пьют они уже не «Метаксу», а «Горілку з перцем». Которой раньше не было.
— За перемогу, — сказал он.
Дамы стихли и выпили. И даже закусили. Кто маслиной, кто огурцом, кто чем.
— Скільки тобі років? — спросила вдруг именинница.
— Мне? — спросил и Лидахин.
— Тобі.
— Мені сорок дев’ять, — сказал Лидахин. — С половиной.
— Яка тобі різниця, скільки йому років? — сказала Олэна.
— Ніякої, — сказала именинница.
Потом Лидахин куда-то провалился. Видимо, уснул. А когда очнулся, спали все остальные. Хотя на улице стоял день. Не спала только Олэна. Она смотрела телевизор. В телевизоре плакали дети. Матери прижимали их к себе. Детей было много. Матерей тоже. Показывали разрушенные здания. Выбитые окна и двери. Люди разбирали завалы руками. Санитары накрывали на тротуаре мёртвых. И снова показывали детей. Лысых, напуганных, испачканных красным.
— Включи звук, — сказал Лидахин.
— Не хочу, — сказала Олэна.
— Где это? — спросил Лидахин.
— Везде, — сказала Олэна. — Это — везде.
Лидахин качнулся и сказал «бляди».
Помолчал.
Ещё помолчал.
Наконец, выдавил из себя:
— Пойду я.
— Куди? — спросила Олэна.
— Куди-куди, — сказал Лидахин.
— Ти ж не хотів, — сказала Олэна.
— Не хотів, — сказал Лидахин.
— Але ти, — сказала Олэна, — зовсім п’яний.
— Я протрезвею, — сказал Лидахин.
11.07.24
СТАРОСТЬ — НЕ РАДОСТЬ
Три конверта
Передо мной, в очереди к окошку, где принимают заказные письма, стоит сморщенная старушка. В мутных толстых очках.
Очередь скопилась внушительная, поскольку второе такое окошко закрыто на перерыв. Старушка вертит головой, вздыхает, приподнимается на цыпочки, чтобы заглянуть вперёд, в голову очереди. Наконец, когда мы почти у цели, она оборачивается ко мне и спрашивает:
— Вон та, в окошке которая, на меня похожа?
Я смотрю на почтовую служащую. Никакого сходства не обнаруживаю. Да и пойди, обнаружь. Когда сравниваешь женщину лет сорока со старухой.
— Не знаю, — говорю. — Вроде не очень.
Наверно, я разочаровал старуху. И она говорит:
— Похожа-похожа. Это моя дочка. А я в очереди к ней стою. Чтоб поговорить. А то без очереди люди ругаться будут. И скандалить. Они всегда ругаются и скандалят. Если без очереди.
Наконец, старуха оказывается у окошка. Придвигается поближе и негромко говорит:
— Здравствуй, дочка.
— Привет, — говорит дочка. — Как дела?
— Дай мне два конверта по Украине, — говорит старуха, — и один, чтоб в Россию дошёл. Брату твоему напишу пропавшему.
Дочка даёт матери три конверта. Старуха начинает рыться в кошельке.
— Мама, не позорь меня.
— Да-да, — говорит старуха и замолкает.
— Мама, очередь…
Старуха убирает кошелёк и говорит:
— Я тут на уголь денег собрала. С пенсий. Но мало. У тебя в конце месяца будет гривен восемьсот?
— Будет, — говорит дочка. — Будет.
— А то мне на уголь надо, — говорит старуха. — К зиме.
— Хорошо, — говорит дочка и говорит: — Ну всё, мама, люди.
— Сейчас, — кивает старуха, — и: — Ты это, — говорит, — как-нибудь…
— Зайду, — обещает дочка. — Зайду.
Старуха запихивает конверты куда-то внутрь, под одежды.
— Ага, — говорит, — я дома. — Поворачивается ко мне и объясняет:
— Дочь моя! Дочка.
Она уходит. А я кладу на стойку конверт формата А4. Дочка не глядя утаскивает его к себе за окошко, наклеивает марки, ставит печати, взвешивает. Она работает спокойно и быстро. Но очереди кажется, что никакого продвижения вперёд нет. Очередь в напряжении ждёт и нервничает.
Я расплачиваюсь, получаю чек. Прохожу в хвост очереди, открываю массивную дверь и вижу всё ту же старуху в мутных очках. Она стоит тремя ступеньками ниже, переминается с ноги на ногу и почему-то никуда не уходит.
2018
Как на лыжах
Откуда она взялась, эта ходьба с палками, точно неизвестно. Раньше её в природе не существовало. Одни говорят, что скандинавская она, другие, что финская. Но бабе Зине это всё равно. Какая ей разница, кто эту ходьбу изобрёл — финны или скандинавы? Лишь бы она позволяла ходить. Так как тяжело ей уже передвигаться естественным способом. А с обыкновенной палкой или костылём не хочется. Она же не калека, с костылями ходить. И ей не сто лет. А всего только восемьдесят. Ну, а с палками всё выглядит так, будто она физкультурой и спортом занимается в своё удовольствие. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. Который стал подводить. То есть её подводит не только он. Зрение, печень и давление тоже её прекрасно подводят. От давления и от печени, правда, она таблетки пьёт хорошие — ей доктор прописал, — от зрения очки носит. А чтобы иметь свободу передвижений, поскольку движение — это жизнь, ей тот же доктор порекомендовал палки купить. И ходить с ними, как на лыжах. И гулять, и в магазин, и в аптеку, и куда угодно.
И баба Зина врача послушалась. Купила себе с пенсии палки и ходила с ними спортивной ходьбой на время и на расстояние. Иногда одна, а иногда с такой же, как она сама, старухой. Той тоже палки кто-то посоветовал для ходьбы. Наверное, тоже доктор.
Да, так вот, к сожалению, не помогли бабе Зине эти иностранные палки. И она умудрилась как-то споткнуться или оступиться. И загреметь с высоты, как говорится, своего роста. И загреметь-то она загремела, а встать оказалось выше её сил. Несмотря на палки. Прохожие, конечно, подбежали, попробовали поднять, но не смогли. Тогда они «скорую» вызвали. И «скорая» приехала буквально через пять минут, наверное, мимо проезжала. Погрузили санитары бабу Зину на носилки и отвезли в больницу. А там, в приёмном покое, ближе к ночи, врачи её подробно осмотрели. Рентген сделали. И сказали, что она серьёзно не пострадала, отделавшись лёгким испугом с ушибом ног и головы. И дали дежурной медсестре распоряжение вызвать бабе Зине каких-нибудь родных и близких. Не переться же ей самой через весь город с палками.
Врачи-то не знали, что нет у бабы Зины никаких родных. Дочка её единственная умерла лет двадцать назад. От рака женских внутренних органов. Говорят, рак по наследству передаётся. Так баба Зина им не болела. И муж её бывший не болел. То есть наследственность у дочки была вроде ничего. Хотя это неточно. Если копнуть. Потому что отец бабы Зины на войне погиб. Будучи молодым. Мать немцы в Германию угнали, не посмотрев на то, что Зине год всего был. И мать оттуда не вернулась — то ли тоже погибла, то ли осталась там жить. А бабе Зине соседи умереть не дали. Больше некому было — дедушек, бабушек или других родственников у неё к тому времени не сохранилось. Почему — неизвестно. История КПСС, как говорится, об этом умалчивает. Так что трудно сказать, от какой болезни зинины предки умерли бы, если б до неё дожили. Может, и от вышеупомянутой.
Баба Зина всё это медсестре рассказала, а медсестра говорит:
— Так у вас что, совсем никого нет?
Баба Зина говорит:
— Почему никого? Внучка есть. Но я не знаю где.
Медсестра говорит:
— Я вижу, у вас телефон мобильный?
Баба Зина с гордостью говорит:
— Да, телефон.
— Можно? — Взяла она телефон. А в нём один абонент всего записан: «Соня». — Соня — это кто?
— Соня — это старуха, — баба Зина объясняет. — Мы вместе с палками ходим. Наперегонки. Но она дряхлая. Я её обгоняю.
— А зачем же вам телефон? Кому звонить?
— Соне звонить, — баба Зина говорит. — И в 0−3. В случае чего.
— Нет никакого 0−3, — медсестра говорит, — «скорая помощь» с мобилки теперь — 112.
Баба Зина даже не поверила. Как нет? Всегда же было, всю жизнь.
— Что ж мне с вами делать? — медсестра эта говорит. — А?
— Не знаю, — баба Зина ей отвечает, — и: — Откуда же, — говорит, — я могу это знать?
2020
Полуподвал
Все их называют просто — старухами. И они знают, что их называют старухами. И не обижаются. Потому что они и есть старухи, и как же их ещё называть.
Старухи собираются в полуподвале. Где когда-то была школа игры на баяне, потом качалка, потом там варили дурь, а потом ничего не делали. Помещение бессмысленно пустовало, приходя в негодность. И вот теперь в этом заброшенном полуподвале собираются старухи. Они садятся в кружок, как анонимные алкоголики, и сидят. Иногда разговаривают о своих старушечьих делах. Иногда молчат. Потому что все темы их жизни уже исчерпаны до дна. И потому что даже у старухи Сергеевны — сумасшедшей, как говорится, на всю голову — нет никаких слов. Хотя обычно они у неё есть в избытке. Из-за избытка этого она всегда говорит, когда ходит по улице. Ни с кем. И даже не с собой. А просто идёт и говорит. И люди обходят её стороной. На всякий случай. Так как говоря, она брызжет слюной на все четыре стороны.
Иногда старухи празднуют в своём кругу Восьмое марта. Или смотрят телевизор. Его приносит Галя, та, у которой сын инспектор Иван-Красна-Морда, и внук тоже инспектор. А сама она в своём прошлом учительница языка и литературы. И у неё есть маленький переносной телевизор с антенной. Называется ВЛ-100. Владимир Ленин — 100, то есть. Пятьдесят лет назад в честь столетия вождя мирового пролетариата его собрали в Дмитрове. Слепые люди. На заводе производственного объединения «Луч». И он до сих пор работает, как часы. А если к антенне прикрутить проволоку и накинуть её на батарею парового отопления, он очень хорошо показывает даже в полуподвале. А может, и в подвале. Но этого старухи пока не пробовали. Изображение, правда, в этом телевизоре черно-белое, что не имеет значения. Главное в телевизоре суть, а не цвет. Так думают старухи. Вернее, так они считают. И смотрят разные передачи коллективно, а потом их обсуждают между собой:
— Блядь, — говорит старуха Петрищева с третьего этажа. — Ну все в этом мире охренели.
— И не говори, — соглашается с ней старуха Стеценко. — И не говори.
Иногда к старухам приходят люди со стороны. Они договариваются с ними о времени и месте проведения акции, сулят деньги или пищевые продукты, допустим, крупы, постное масло и тому подобные прибавки к пенсии.
— Портреты Сталина свои приносить, — спрашивает старшая старуха Алла Матвевна, бывший конструктор, — или на месте выдадут? — И объясняет: — Со своими дороже.
Ещё она предупреждает заказчиков, чтоб не вздумали обмануть с оплатой. Потому что они тут же выступят в прессе, а в следующий раз примут сторону их политических оппонентов.
После того как утрясут все нюансы, старухи надевают свои малиновые береты из мохера, пальто с каракулевыми воротниками и принимают активное участие в общественно-политической жизни страны. А именно в демонстрациях, митингах и пикетах.
Больше всего протестовать любит упомянутая старуха Сергеевна. Протест её будоражит, она кричит и машет руками, и от всего сердца плюётся, и получает от этого какое-то своё, отдельное удовольствие. Хотя бывает, что её бьют дубинками по спине, кидают в автозак и отвозят в отделение. Но она оттуда всегда возвращается несломленной, как птица Феникс. Поскольку её уже все менты знают по имени-отчеству и не хотят с ней связываться.
После митингов старухи собираются в полуподвале и смотрят по телевизору новости дня. И в них их показывают крупным планом. Они видят себя, узнают и вскрикивают: «Смотри, я». «И я». «И я». И ещё в телевизоре говорят, что пока всё это старьё в беретах не вымрет и не покинет историческую арену, жизнь в стране не наладится.
И действительно, какая-нибудь старуха время от времени умирает. И тогда остальные, ещё живые, дружно её хоронят. Особенно если старуха одинокая и никому не принадлежит. А таких в полуподвале абсолютное большинство. Они и деньги, заработанные на митингах, переводят в твёрдую валюту и откладывают в общак, себе на похороны. Так у них принято и заведено. Верховный совет полуподвала собирается, решает все организационные вопросы, и умершую торжественно провожают в последний путь. Провожают и хоронят на радость тем, кто ждёт, пока всё старьё вымрет. Но радость их напрасна и преждевременна. Просто по молодости лет они ещё не знают, что старьё не вымрет никогда, что на место этого старья придёт другое, новое старьё, и будет оно ничем не лучше нынешнего. А может быть, и гораздо хуже.
2020
Сервиз
Старик жил один. И давно. Очень давно.
Когда-то у него был кот. Но кот умер от старости. И это было тоже давно.
А ещё раньше у старика была жена. Которая умерла лет за десять до кота. И больше у него не было никого. Вернее, никого не осталось. Потому что старик всех пережил. Всех без исключения. В том числе сестёр, братьев и пожилого сына. А может быть даже, и внука своего он пережил. То есть с внуком неизвестно. Внук, возможно, и существовал где-нибудь на свете, но пропал без вести. Для старика во всяком случае. Так что старик жил и ждал, когда наступит зима. И не знал, переживёт ли её. Старик зимы боялся. Зимой ему было холодно. Ещё холоднее, чем обычно. Старость, как оказалось, холодное время в жизни человека. И длинное.
И помнил он себя только мёрзнущим, и только старым. А молодым не помнил. И как он жил, когда был молодым, не помнил. И вспомнить не пытался. Там, в его молодости, было много разных людей. Люди его окружали и проходили сквозь его жизнь. Но они прошли и исчезли навсегда, и незачем их было извлекать из времени и ворошить. Совсем незачем. А без них как вспомнить себя? И то, что с тобою происходило. Не в вакууме же он жил, не в вакууме. Зато сейчас…
Вакуум — правильное слово. Подходящее. Конечно, образовался он вокруг старика не сразу. А постепенно. Изолировав его от внешнего мира. Хотя совсем отгородиться от него было невозможно. Как ты отгородишься, например, от сирен скорой помощи? Если живёшь возле большой больницы, на перекрёстке со светофором. И все «скорые», везущие тяжёлых больных, страшно на этом перекрёстке завывают сиренами, чтобы их пропустили на красный свет. «Лучше бы я на перекрёстке у кладбища жил, — думал старик. — Там хотя бы сирен никто не включает. Духовые оркестры тоже, конечно, не подарок. Музыку же они исполняют всегда одну и ту же. Ни тебе польки-бабочки, ни тебе вальса-бостона. Только марш, да и тот Шопена». Впрочем, когда старик слышал сирену, он невольно понимал, что кому-то сейчас гораздо хуже, чем ему. Тем более сказать, что ему плохо, он не мог. Ему не было плохо. Возможно, ему не было хорошо. Но и плохо ему не было. Лежал себе, а силы из него уходили. И он, что называется, угасал. То есть он мог встать с постели, мог сесть — силы на это ещё были, — он даже мог, если бы очень захотел, пройтись по квартире. Медленно, держась за стенку, но мог. Только зачем? Он не знал — зачем. Не видел в этом необходимости. И не вставал.
Дочка старика ещё до того, как в какой-то энный раз выйти замуж и уехать к мужу в Германию, организовала ему уход от специальной фирмы. За то, что после смерти его квартира этой фирме достанется. Ну, и пенсией тоже фирма распоряжалась — тратила ему на жизнь и лекарства.
Правда, о таких фирмах ходили разные слухи, говорили, что старики, подписав договор, очень быстро умирают. Вроде бы своей смертью, но очень быстро. Дочка уверяла его, что всё проверила и перепроверила, фирма честная, с репутацией, никого за годы своего существования не умертвила. Во всяком случае, жалоб на неё от клиентов ни в какие соответствующие органы не поступало.
Фирма действительно оказалась честной — наверно, честные фирмы тоже бывают — и теперь каждый день к старику приходила патронажная сестра Катя. Она кормила его ужином, мазала бутерброды на завтрак, накрывала их салфеткой и ставила на столик у кровати. Вместе с термосом. В термосе был чай. Тоже на завтрак. Но можно было его попить и ночью. Хорошая девушка. Душевная и работящая. Кроме того, старику привозили обеды. Ещё патронажная давала ему таблетки, меняла памперсы, мыла, иногда мерила давление. И квартиру иногда убирала. Не часто, но всё-таки. В общем, с бытом был старик хорошо устроен. Не каждому так везёт.
Однажды он спросил у Кати:
— Ждёшь, небось, чтобы я помер?
А она ответила:
— Почему я должна этого ждать? Вы живёте — я работаю. Хотя и без вас, конечно, работа есть.
— А начальство твоё ждёт?
— Начальство не знаю, — сказала Катя. — Начальству виднее.
— Но как я себя чувствую, начальство у тебя спрашивает?
— Да, это спрашивает.
«Конечно, ждёт, — думал старик, — у них бизнес от меня зависит, а я уже четыре года по договору с ними живу. Как не ждать».
А назавтра после этого разговора он попросил Катю дать ему ужин на тарелке из сервиза. Чего вдруг — неясно. Просьба эта возникла неожиданно даже для него самого. Был у старика майсенский сервиз. Трофейный. Его родителям кто-то подарил в пятидесятые годы. На серебряную свадьбу, кажется. И когда родителей не стало, старик — то есть тогда он стариком ещё не был — взял этот сервиз себе. На память. И вот в нём он попросил дать ему ужин. Сказал:
— Там, в серванте стоит, в большой комнате.
Катя вышла и принесла ужин на тарелке в цветочек.
— Вот, — говорит, — пожалуйста.
— Это не сервиз, — сказал старик.
А Катя пожала плечами и сказала:
— Вы не капризничайте, давайте. Ешьте. Вы ж у меня не один.
Она накормила старика ужином, поставила на стол утренние бутерброды и термос. Таблетки тоже дала и сказала:
— До завтра.
— До завтра, — сказал старик, — до завтра.
А когда она ушла, он собрался с силами и сел. Посидел спокойно, подышал и нащупал ногами пол. Встать оказалось совсем не так трудно. Хотя с непривычки и не легко. И он встал. Постоял, держась за спинку кровати, и двинулся вдоль стены.
В большой комнате не было не только сервиза в серванте, в ней и самого серванта не было. И вообще не было ничего — ни телевизора, ни ковра, ни шкафа. А главное, не было картин, которые дарил старику его друг, художник Колючий. Комната была пуста. Совсем пуста. И обои на стенах — в светлых больших прямоугольниках от мебели и в прямоугольниках поменьше — от картин. Нет, старику было не жалко шкафа. Зачем ему шкаф? Ему даже сервиза было не жалко. Хотя, конечно, и жалко. Сервиз же был для него не посудой, а памятью о родителях. Он последний человек на планете, кто их помнит. Помнит, как в праздники ставили этот сервиз на стол. А последний, потому что дочь его, которая их, будучи ребёнком, знала, тоже умерла в своей этой Германии в счастливом браке. Муж показал ей Европу и Америку, и сделал для неё всё, что мог, но она всё равно умерла после тяжёлой продолжительной болезни. О чём немецкий муж дочери написал ему русскими печатными буквами в письме. С год, наверно, назад.
Из большой комнаты старик поковылял в кухню. Там он нашёл стол, газовую плиту, раковину. И холодильник, но не его, а чужой — маленький и обшарпанный. Старик напряг зрение и прочёл: «Саратов». На столе он обнаружил несколько тарелок, вилку, ложки — столовую и чайную — и даже нож.
«Куда же всё подевалось? — думал старик. — И когда? Почему я ничего не слышал?» И он решил, что вещи вынесли, когда он спал. А спал он теперь много и крепко. Проваливался, как сквозь землю, и всё.
«Конечно, мне ничего не нужно, — думал старик, — им нужнее, им жить. Хотя картины могли бы оставить. Картины мне всё-таки жалко».
Ещё в кухне, в углу, стояли рулоны обоев. И банки с краской. И что-то ремонтно-строительное. Стремянка, ведро и тому подобное.
Старик подобрался к обоям, опёрся одной рукой о подоконник, а второй отвернул край рулона. И стал разглядывать.
Нет, рисунок ему не понравился. Абсолютно.
2013−2016
Хорошо и прекрасно
Сколько стоит на земле третий подъезд дома номер сорок девять по улице Софьи Ковалевской, столько в нём живёт один какой-нибудь старик или старуха. В смысле, настоящие старик или старуха, древние. Сначала жил там девяностолетний Миша Иванов, на еврейке Ивановой женатый. Потом долго квартиру на втором этаже занимала пакостная старуха Матвеевна по кличке Шкидла. Занимала, пока не умерла в девяносто три года от простуды верхних дыхательных путей. Теперь её место под солнцем заняла Валька. Ей девяносто три исполнится этим летом. И судя по всему, Матвеевну Валька переживёт. А у некоторых есть мнение, что она вообще не умрёт никогда.
Валька живёт в доме с самого начала. С 1970-го года. Как дом этот железобетонный построили, как дали ей в нём квартиру от мехзавода ГШО, так она в нём и живёт. Двоих детей здесь без мужа в армию проводила, внука после несчастного случая похоронила, ну и так далее, и тому подобное. И всех жильцов дома за эти годы она помнит поимённо и пофамильно. В какой квартире жил, с кем жил, кем работал, как себя вёл на производстве и в быту. Такая у неё память сердца. Ну, и кто, когда, к кому приходил, когда уходил. Мужчина, женщина или кто другой. Всё это Валька тоже знает и помнит, как дважды два. Поскольку живёт на первом этаже, и кухонное окно у неё рядом с входом в подъезд расположено. И захочешь — мимо незамеченным не проскользнёшь. Делать же ей нечего. Она или у подъезда торчит, или поесть-попить себе на кухне готовит. В окно поглядывая. Благодаря Вальке в подъезде за все сорок восемь лет не было ни одной квартирной кражи. Потому что, когда Валька работала маляром, квартиры грабить было ещё как-то не принято, а когда это стало массовым явлением, она уже была на пенсии и на посту.
Кто в милицию попал, кто в институт поступил, у кого тяжёлая и продолжительная болезнь случилась. Всё Вальке известно. Как-то она всё это узнаёт из своих источников, гуляя целыми днями на скамейке перед домом. Она же, кстати, не пускает в подъезд мелких жуликов из канадской фирмы, свидетелей Иеговы и агитаторов во время всевозможных выборов. Не сообщает им код домофона, и всё. А если кто из подъезда случайно выходит, заслоняет входную дверь собой, чтобы агитаторы в неё не просочились. И говорит им просто и ясно: «Дайте, — говорит, — людям жить. Идите на хуй и не возвращайтесь». И, что примечательно, они, агитаторы, идут и не возвращаются. Жулики и свидетели Иеговы тоже.
Выражаясь прежним языком Советского Союза, Валька выполняет обязанности старшей по подъезду. Причём на чисто общественных началах и по своей собственной инициативе. За детьми присматривает, пока родители на работе маются, больных проведывает, мол, не надо ли кефиру купить или пирамидону, первой приходит на помощь в случае чьей-нибудь смерти. А однажды спасла жизнь соседскому коту Чернышу. Увидела, что его чёрный хвост свешивается из-под куртки у Клешни — дворового их бомжа и наркомана. И подняла страшный крик: «Отпусти кота, скотина». Клешня хотел от неё убежать, но она за ним погналась. И зацепила своей клюкой за ногу. Клешня полетел носом в асфальт, и Черныш у него из-под куртки вырвался. И убежал. А так-то ходили слухи, что наркоманы котов ловят и продают Надьке, которая на Образцовом рынке горячими пирожками торгует. В том числе и с мясом.
Так что Валька, несмотря на свои годы, живёт напряжённой общественной жизнью. Для людей живёт. С самого утра дежуря у подъезда, на своём общественно-полезном посту. И люди ей за это от души благодарны. Хотя многих она, конечно, подзаебала своей активной жизненной позицией. Но не это же главное. Главное, что у Вальки счастливая старость. Она и сама всегда говорит: «Всё, — говорит, — у меня прекрасно».
А чего? Чувствует Валька себя допустимо. Для своего преклонного возраста. И видит, и слышит, и на своих ногах. Только жёлчный пузырь ей удалили, а остальные органы все, как один, при ней. Если б ещё пенсию повысили на сколько-нибудь, совсем стало бы терпимо.
Помощи-то ждать Вальке не от кого. Ни материальной, ни какой иной. Сыновья умерли. Естественной смертью от старости. Валька говорит: «Мужчины у нас непродолжительно живут по статистике. А дети мои нормально пожили, грех жаловаться. Младший семьдесят два года, а старший семьдесят».
Невесток тоже у Вальки фактически нет. С одной сын развёлся при жизни ещё, бог знает как давно, а другую она не смогла простить или не захотела. За то, что допустила гибель внука. Любила Валька внука своего единственного, а она, мать, его в детстве недоглядела. Выходит, что пенсия повышенная никак Вальке не повредила бы. Но и без пенсии ей хорошо на свете жить. Хорошо и прекрасно. И гораздо лучше, чем многим другим людям.
2019
Дом номер десять
Обшарпанные, кривые дома стояли вдоль улицы. Напоминая бывших солдат, искалеченных какой-нибудь мировой войной. В одном месте дома нарушали строй и ныряли во двор. Огибали там старую акацию и снова выползали на улицу. К мосту. И снова выстраивались в корявую шеренгу.
Первый дом во дворе был восьмым. Второй двенадцатым. Третий четырнадцатым. А десятого вообще не было. Старик искал его глазами в очках, щурился, но не находил. «Может, сбой в нумерации? — думал он. — И десятый просто где-нибудь на задах, за сараем»?
Но это сарай можно спрятать за домом, а наоборот нельзя. Десятого дома не было. Хотя именно в доме номер десять, в первом этаже, жила его мать. Там же, в начале сорок первого года, родился он, нынешний старик. От кого родился, мать ему почему-то не сказала. Ни в детстве, ни позже. Она и в загсе заявила, что не знает, кто отец ребёнка. Дала ему своё отчество — Евгеньевич, и всё. Поскольку её удачно звали Женей.
Квартиру напротив занимали Нилусы. Брат и три сестры — все старые девы. Брат тоже никогда не был женат. Так как в молодости они были очень заняты. Делали революцию. Потом ударно трудились на благо её побед. Потом сидели. В конце войны они неожиданно вышли и зажили одной семьёй. Мать посылала им праздничные открытки. И о них рассказывала. Сам он, конечно, их помнить не мог.
Теперь старик стоял под акацией и думал, что может насчёт номера ошибаться. Память в последние годы стала сильно его подводить.
Вдруг из-за спины спросили:
— Кого-нибудь ищете?
— Нет-нет, — ответил старик и обернулся. И увидел старуху. Совсем древнюю старуху — сморщенную и сгорбленную. Несмотря на лето, она была в тёплом платке.
— Вернее… — старик всё-таки решился спросить. — Вы давно здесь живёте?
— Я-то? — сказала старуха. — Я как родилась, так здесь и живу. Девяносто четыре года уже живу. И три месяца.
— А Нилусов не помните? Они тоже здесь жили. Кажется, в десятом номере.
Старуха обиделась:
— Почему это я не помню Нилусов? Я всех помню. Нилус в восемьдесят втором году умер, недавно. А сёстры его, правда, раньше умерли, — она что-то прикинула в своём уме и добавила: — И в десятом жили они до войны. А после войны в шестом. В шестой, считай, никто не вернулся. Погибли все. Потому они там две комнаты и заняли.
— Зачем? — не понял старик. — Эти комнаты были лучше?
— Они были хуже, — сказала старуха. — Но в десятый же бомба попала прямым попаданием.
— Бомба?
— Бомба, бомба, — сказала старуха. — В единственный дом на улице. Тогда и кошку мою убило. Кузьку.
«Вот, значит, в чём дело», — подумал старик.
Мать о бомбе ничего вроде не говорила. Она после войны здесь ни разу и не была. Отец её погиб, когда город немцам сдавали. В сорок первом. Мать умерла в эвакуации. В сорок втором. Так что некуда ей было после войны возвращаться. Тем более со стариком. То есть, конечно, с ребёнком на руках. Потому что тогда сегодняшний старик был ребёнком. Если бы бомба в дом не попала, она бы, может, и вернулась, а так — какой смысл? Раз не осталось у неё здесь ни кола ни двора, ни родных ни близких. То есть она правильно не вернулась. Поехав из эвакуации с бабушкой и тёткой в город Сталино. Где с отличием окончила мединститут и прожила всю оставшуюся жизнь более или менее сносно. И старик тоже там с ней жил довольно долго. Пока не повзрослел, не женился и не уехал с женой на постоянное место жительства за океан. В январе восьмидесятого года. Тогда как раз выпускать советских людей на свободу прекратили. Даже евреев. Ввели войска в Афганистан и прекратили. Но к этому моменту у них все документы были готовы, квартира сдана советской власти, багаж отправлен. И они чудом проскочили. А мать ехать с ними отказалась. Сказала: «Я уже как-нибудь здесь доживу. По привычке. А вы езжайте». И они поехали. И много лет жили в стране США. Жили трудно, но хорошо. Во всяком случае, не хуже других.
О матери старик спрашивать не стал. Не хотелось ему говорить о ней с чужим человеком. Рассказывать, что она давно умерла, что хоронить её было некому и что могила её не сохранилась.
Кстати, жена старика тоже умерла. Дети разъехались по свету и живут в своё удовольствие. А сам он почти уже дожил до конца. И вот, с бухты-барахты сел в Боинг и прилетел в город, где родился и где жила в молодости его мать.
С какой целью попёрся он за тридевять земель через океан? Что хотел здесь увидеть, что найти? Спросить не у кого.
После разговора со старухой он приковылял по чужому городу в гостиницу. Сложил свой чемодан на колёсиках и попросил дежурную вызвать такси.
В аэропорту он купил билет прямо на сегодня. И через три часа этот американский старик улетел в свои Соединённые Штаты навсегда. Гораздо раньше намеченного срока улетел, и адреса никому не оставил.
2020
Суп
Года три Розка бегала по Красноповстанческой балке незаписанная. Всё родителям было не до неё. Да и время к регистрации актов гражданского состояния не располагало. С двадцать первого по двадцать четвёртый. Рожать ещё рожали — от безвыходности, — но куда этих рождённых детей нести, чтоб бумажки выправить, было не всегда понятно. А когда в двадцать четвёртом у них в семье ещё одна дочка родилась и когда политическая обстановка в городе несколько стабилизировалась к лучшему, тогда уже и Розку зарегистрировали у советской власти, поставив на учёт. Причём записали так: младшую, только что родившуюся, — в июле, а Розку — в августе. Вышло, что мать их родила с перерывом в месяц. И Розка оказалась младшей. По бумажкам и документам.
Годам к пяти она научилась варить суп. Картофельный. Сама научилась. И за старшей своей сестрой ухаживать — тоже научилась. Поскольку мать сначала долго болела, а потом и совсем умерла. А отец всегда был на службе, чтобы их с сестрой содержать и чем-нибудь кормить. Пришлось Розке научиться. И когда отец приходил со службы, Розка подавала ему суп в тарелке. Картофельный. И он не мог на неё нарадоваться и наглядеться. Суп, кстати, у Розки получался вкусный с первого дня. А если средства позволяли курицу купить и часть её в супе сварить, так особенно.
Сейчас в эту балку ходят розкины правнуки, те, что ещё не уехали. Но только в зимнее время года. Они спускаются по крутому склону на кусках линолеума с бешеной скоростью. Правнуки у Розки взрослые. Старшему двадцать семь лет. А жена его этой зимой ударилась на каком-то трамплинчике головой об лёд. И у неё был ушиб головного мозга. Развлекаются детки. Делать им больше нечего. Розке в двадцать семь лет было не до катаний и развлечений. В двадцать семь лет она уже сидела, как миленькая. За космополитизм и тому подобное. Ей и сейчас не до них. В силу возраста и здоровья. Но суп она до сих пор варит вкусный. И правнук с женой, пока не развелись, заходили к ней с мороза, чтобы поесть её супу. Который она научилась варить в раннем детстве. Да так до сих пор и не разучилась. И, видимо, не разучится до самой своей смерти.
Тем более до неё рукой уже подать можно.
2018
БЛИЖЕ К СМЕРТИ
Жара
Полдень пятницы. Пыль и жара. Старик в тулупе стоит, привалившись к забору. Забор клонится под его напором. Верка крутит на себе хула-хуп. Который то и дело срывается с бёдер и падает в сухую траву улицы. И бьёт по щиколоткам. Верка морщится.
— Ой, бля, — шепчет она тихонько, — ой.
Старик провожает хула-хуп по ниспадающей взглядом и глубже погружается в тулуп.
— Тьфу ты ей Богу, — говорит он Верке. И забор не выдерживает. И валится.
Верка взвизгивает и, подхватив хула-хуп, как штаны, отскакивает. Забор падает на улицу, старик падает на забор.
— Тьфу ты, — говорит старик.
Он поднимается на карачки, трёт колено и бедро, постанывает, разгибается.
— Я не виновата, — говорит Верка. — Ты сам упал.
Старик ворчит «сам, сам» и ковыляет в дом. Забор остаётся лежать. Верка держит хула-хуп руками на талии. Весь её сарафан в пыльных поперечных кругах. Зад оттопырен. С кончика носа капает пот. «Не получается, — думает она. — Ничего у меня не получается».
А старик всходит на крыльцо и плохо думает о сыне — зачем он снял эту дурацкую дачу. Теперь придётся забор ремонтировать. Конечно, Верке нужен отдых — последний класс и так далее. И сыну, наверно, здесь лучше. Хотя бы прохладнее. Хотя бы по выходным. Всё-таки речка, лес, воздух.
Говорят, что в городе сейчас совсем жить нельзя. А здесь жару перенести легче. Старик здесь и вовсе мёрзнет. Руки, ноги, живот — всё у него мёрзнет. От острой нехватки жизненных сил. Вот, нашёл в даче чей-то тулуп и носит. Наверно, хозяйский или забыли прошлые дачники. Соседка говорит: «Дед, я от одного твоего вида в обморок падаю. Вся в поту». В обморок она падает. Коза драная, принцесса.
Ещё прошлым летом старик не мёрз. А этим уже мёрзнет. Во всяком случае, здесь, на лоне деревенской природы. Правда, дома, в городе, он тоже мёрз. Это от места жительства не зависит. Холод копится внутри, несмотря на жару снаружи. И вообще, несмотря ни на что. Он уже сказал сыну:
— Буду умирать, силы кончились.
А сын, конечно, стал на старика орать:
— А Верку, — говорит, — с кем оставить. Я работаю, жена работает. На тебя одна надежда.
«Ну какая может быть надежда на старика? — думает старик. — Смешно».
Верка берёт свой хула-хуп и отходит в тень дерева, которое клён. И стоит в тени. Остывает.
— Привет, — подходит к ней местный мордоворот Фёдор. — Остываешь?
Верка «да, — говорит, — остываю», а он говорит «жара».
— Верка! — над забором всплывает голова соседки. — Не разговаривай с Федькой, педофил он. У него и справка есть об освобождении.
— У, сука, — говорит педофил Федька и оставляет Верку в покое, уходит.
«Надо в город подаваться, — думает он, — или в столицу нашей родины. Там простор. А тут не дадут мне житья».
«Жалко, — думает Верка, — с виду хороший парень, на менеджера похож». Она прислоняется к бугристому стволу дерева и смотрит сквозь листву на солнце закрытыми глазами. Под веками у неё становится нестерпимо светло. До рези. Верка сжимает веки плотнее, так, что щёки и лоб идут складками — и глазам в темноте этих складок делается приятно.
— Верка! — слышит она и глаза открывает.
Солнце жжёт и слепит, пробивая лучами листву.
— Чего?
Верка отделяется от ствола. Идёт сквозь пролом в заборе к дому. И опять слышит:
— Верка!
Она заглядывает в дверь.
— Чего?
— Скажи отцу, чтоб на похороны никого не звал — не именины, — говорит старик.
— На какие похороны? — говорит Верка.
— Ты скажи, и всё.
— Сам скажи, — говорит Верка и выходит. Опять на улицу, под клён, в тень.
— Если никого не звать, — говорит старик сам себе, — никто не увидит меня в мёртвом виде, и всем будет казаться, что я живой. Что просто меня нет. Что я на даче.
Он улыбается своей нехитрой мысли, которая греет ему душу. Но не тело. Поэтому на кровать он ложится, не снимая тулупа. Ложится и долго лежит там в дрёме. Пытаясь согреться и переживая за Верку, которую здешние трактористы легко могут обидеть. Тем более что и сама она не против быть обиженной — кобыла.
Вечером приезжает из города сын. Видит поваленный забор. Тихо матерится. Старик всё ещё спит. Наверно, ему таки удалось согреться.
Верки нет. Хула-хуп стоит, прислонённый к дереву, которое клён. А самой её нигде не видно. Зато видно поблизости в сумерках соседкино ухо в профиль.
— Верку не видели? — спрашивает сын у соседки.
— Верку твою трактористы в клуб повели под руки. Или в стога.
Сын соседку терпеть не может и спасибо ей не говорит. Он думает, что не идти же ему в клуб, загонять Верку домой: «Скажет, что я её позорю перед трактористами. Скажет, что она взрослая. Соплячка». Про стога даже думать не хочется.
Он слоняется по дому, по двору, по улице. Съедает что-то из привезённых с собой продуктов. Остальное засовывает в холодильник. Опять слоняется по дому. Подходит к старику.
— Спишь?
Старик сначала ничего не отвечает, потом перекатывается со спины на бок и говорит:
— Сплю.
Перекатывается обратно и говорит:
— Почти уже вечным сном.
— Опять ты за своё, — злится сын, — надоел.
Наконец, приходит Верка. И приносит с собой в дом ароматы, которые и запахами-то назвать грех.
— Где была? — говорит отец.
— А мама не приехала? — говорит Верка.
— Нет.
— Опять в ночную?
— Хамишь, — говорит отец.
— В кино была, — говорит Верка.
— И как это кино называется?
— Не знаю. Оно без начала.
— Про что?
Верка думает.
— Про любовь, тебе неинтересно.
— Слышь, — старик смотрит в потолок. — На похороны не приглашай никого. Хочу отметить свой уход в семейном кругу родных и близких.
Сын и Верка прерывают разбирательство и смотрят на старика.
— Будет тебе в семейном кругу, — говорит сын. — И в тёплой дружеской атмосфере полного взаимопонимания.
Один глаз у старика слезится.
— Обещаешь? — слеза скатывается в воротник тулупа.
— А несёт от тебя чем? — сын продолжает процесс воспитания Верки.
Верка принюхивается к себе. Поводит носом.
— Чем, чем — ничем.
— Ты мне ещё забеременей. На каникулах.
Отец хочет дать Верке подзатыльник, но промахивается.
— Кстати, кто забор завалил? Трактористы?
Верка отступает на безопасное расстояние.
— Какие трактористы. Это дед завалил.
— Придумай что-нибудь умнее.
— Не хочу. Это дед. Дед завалил.
Отец издали замахивается на Верку.
— Ну убей меня, — говорит старик, — за этот забор, — и снова впадает в сон.
Сын поворачивается к старику, хочет что-то сказать, но в результате только машет рукой. Мол, да чёрт с вами со всеми и с вашим забором в частности.
— Иди спать, — говорит он Верке. И она, чтоб не нарываться лишний раз, идёт.
Но лечь не успевает, потому что появляется мама. Верка скачет от радости козлом.
— Привет, ты приехала?
— Привет, дай я тебя поцелую, — мама обнимает Верку. — А чем это от тебя несёт?
— Трактористами от неё несёт, — говорит отец, — трактористами.
— Ничем от меня не несёт, — Верка недовольно высвобождается из объятий.
— Чего приехала? — говорит отец.
— Отдохнуть, — говорит мама, — побеседовать.
Верка уходит во вторую комнату и устраивается там на ночлег.
— Умойся, — говорит отец. — И зубы не забудь почистить.
Верка послушно идёт к умывальнику и чистит зубы. Сплёвывая зелёным.
— И о чём мы будем с тобой беседовать? — слышит она из комнаты.
— А что, совсем не о чем?
Верка с начищенными зубами возвращается из кухни.
И тут в очередной раз просыпается старик. Он сонно ворочает головой. К стене. Затем от стены. Видит сноху. И бурно, как может, ликует.
— Вот, семья в полном сборе, — говорит старик. — Можно умирать.
— Умирай! — орёт сын. — Давай, умирай, быстро. А то все только пугают.
Старик сжимается, задерживает дыхание, жмурит глаза.
— Не умирается, — говорит он и протяжно выдыхает из себя воздух: — Может, завтра. Или ночью во сне. Хорошо бы во сне.
— Что это с ним? — говорит жена.
— Не видишь, умирать собрался, — орёт муж. — В узком кругу семьи.
— Чего ты орёшь? — говорит жена. — Не ори.
— Это я ору? — орёт муж и выбегает из дому.
И хлопает дверью так, что она закрывается, открывается и опять закрывается. Смотрит по сторонам. Находит взглядом ржавый топор. Выдёргивает его из пня. Подбегает к забору. И судорожно начинает ремонт.
В жаре и темноте ночи.
Под звёздами.
При луне.
2010
Лестница
Дверь в квартиру, как и положено в таких случаях, была не заперта, а открыта. И сквозь неё входила и выходила кошка. Она вилась в ногах, тёрлась о незнакомые брюки, юбки, колготки. Только не мурлыкала. «Чья это кошка?» — спрашивали одни. «Её, — отвечали другие. И говорили: — Пропадёт теперь. Надо бы её куда-то пристроить», — и забывали о ней. Заходили, огибали стол, клали цветы и, прижавшись спинами к стенам, стояли. Некоторые заглядывали извне, видели внутри тесноту, передавали букеты и оставались снаружи. А то и спускались вниз, на воздух. Ещё спрашивали зачем-то: «А кто тут командует?» — спрашивали шёпотом, и шёпотом отвечали:
— Вон тот, толстый.
— Шпонык, что ли?
— Шпонык.
Вообще народу собралось не слишком много. А казалось, наоборот. Из-за однокомнатной тесноты и узости общего коридора. Все друг с другом здоровались. Говорили: «А я смотрю, тебя нет, думал, не придёшь». «Как это я не приду. Я пришёл». «Автобус уже тут?» «Не видел». «А как вообще жизнь?» «Да так».
Шпонык действительно здесь командовал. Командовать он привык и, кстати, умел. Причём давно. Потому что много лет работал старшим тренером. До недавнего времени работал. Тренируя тяжелоатлетов в спортивном обществе. Кажется, «Локомотив». Или, может, «Электросталь». Несмотря на своё никудышное сердце и лишний вес. Настолько лишний, что шнурки завязать себе Шпонык не мог. При надобности он говорил: «Зинка, к ноге». И Зинка приседала у него под брюхом в три погибели и завязывала ему шнурки. И ногти на ногах тоже она стригла. Кто же ещё. Но в общем Шпонык Зинкой не злоупотреблял, любил её, как мог, и жили они с юных лет безраздельно. Что к делу не относится. Поскольку речь не о жизни и деятельности Шпоныка, а о том, что он сам себя назначил командиром. Собственно, никто на эту кислую должность и не покушался. Вот он на безрыбье себя и назначил. И, когда время окончательно подошло, приступил к командованию вплотную:
— Давай, — говорит, — ты, ты, ты и ты. Нет, ты не по росту. Лучше ты. Взяли. Так. Теперь задом давай, задом пяться. И в коридор, на площадку.
Мужики без возражений выполнили команды. И он стал хлопотать дальше, делая своё руководящее дело и неся ответственность: протиснулся между стеной и столом, расплывшись брюхом с одной стороны, прикинул на глаз, что и как, потом то же самое с другой. Потом сказал:
— А ну давай, заноси-пробуй. Влево давай, чтоб сразу к лестнице ногами, без разворота.
Мужики попробовали занести влево, но упёрлись в противоположную стену коридора и одновременно, бортами, застряли в дверной коробке. И всё остановилось. Попытались сдать назад, чуть наклонить и повторить маневр — ни черта. И стало совсем тихо. И в этой тишине сдуру зазвонил телефон. И слили из туалетного бачка воду. До неприличия громко.
— Бля, — сказал кто-то. — Эти коробки не только для жизни не годятся, они и для смерти не предназначены.
Шпонык оглянулся на голос, сказал «да», тяжело присел и посмотрел вдоль днища. Ничего, кроме днища, не увидел. Зато у него на заднице лопнули штаны. С треском.
— Ёпп, — сказал Шпонык, — опять.
И потрогал прореху ладонью.
Мужики всё это время держали свой груз на руках. Здоровые мужики, сильные. Хоть и бывшие, а спортсмены. И спортсмены не из последних. Они могли и дольше держать, но что от этого толку. Надо было делать что-либо полезное, имевшее смысл и логическое продолжение. А так стоять, держать, как атланты, — бессмысленно.
И вдруг Шпонык чуть ли не подпрыгнул вместе со своим неподъёмным брюхом. Мыслью ужаленный.
— Звони, — сказал он, — звони, давай.
Куда звонить, чего звонить. Все удивились и не поняли.
— В дверь напротив звони. Пускай откроют, вы в квартиру её малость внесёте, в противоположную, а там увернётесь.
Стали звонить. Долго жали на кнопку.
— Может, звонок не работает? — засомневался кто-то.
— Работает, — сказали передние, — слышно, как дребезжит.
В конце концов дверь недовольно открылась.
— Вовнутрь, — сказал Шпонык. — Наружу было бы хуже, не так удобно.
— Тебе виднее, — сказали мужики. Может быть даже, иронически.
Из тёмной прихожей в проём выступила тем временем старуха. В цветастом халате. Цветы на нём были засалены, а на груди истёрты до мутных проплешин.
— Чего? — сказала старуха.
— Сдай назад, бабушка, — сказал Шпонык, — а дверь оставь так. Пожалуйста.
— Чего? — сказала старуха. — Чего это я буду сдавать и оставлять?
— Мы только на момент к тебе углубимся, — сказал передний левый мужик, — чтобы развернуться, и всё.
Старуха неподвижно задумалась.
— Она бывшая чемпионка мира, — сказал Шпонык. — И бывшего СССР. Чемпионка.
Старуха сказала:
— Знаю я. Таких чемпионок. Видала, — и продолжала не двигаться.
Подождали результатов её раздумий. Потом левый передний мужик сказал:
— Побойся бога, бабуля, у нас тут, видишь, какое горе.
— У всех горе, — сказала старуха. — У всех. У меня вон зятя закрыли, гады. Ни за что.
Она хотела было рассказать про зятя, но передумала. И сделала-таки сначала два шага назад, затем ещё один. Мужики, вжавшись спинами в лутку, пронесли покойницу на полметра в старухину квартиру, потихоньку наклоняя набок и разворачивая, вернулись в коридор и оказались, наконец, не поперёк его, а вдоль.
— Чего и следовало ожидать, — сказал Шпонык радостно.
— Ох, зря я вас впустила, — сказала старуха, — в субботу. Плохая примета.
Но её уже никто не слушал. Все вздохнули. Хотя морока только начиналась. И нужно было ещё спуститься на первый этаж. С одиннадцатого. По узким и коротким лестничным маршам.
— Эх, был бы грузовой лифт… — сказали у Шпоныка над головой.
— Тут и легковой никогда в жизни не работал, — сказали там же.
— Будем над перилами проносить, — сказал Шпонык.
Передние мужики стали спинами к ступенькам, плечом к плечу. Теснясь. Задние тоже по возможности сгрудились.
— Недаром её звали большой красавицей, — сказал Пустовол, которого напарник прижимал к перилам всё сильнее.
— Ну, — сказал напарник. — И красивой была по-настоящему, и большой по-настоящему. В разных смыслах.
— Надо было на простыне, — сказал Пустовол.
— Поздно, — сказал напарник.
Да, сто девяносто сантиметров — это для девушки, что бы там ни говорили, рост. А у неё при этом росте и красоте ещё и фигура была идеальная, что тоже редкость. Не 90×60×90, конечно, но всё равно идеальная. Может быть, плечи чуть широковаты и мышцы более рельефны, чем хотелось бы ценителям и эстетам. Ну так серьёзные занятия греблей никому бесследно не проходят.
Преодолели первый пролёт.
— Осторожно, — сказал Шпонык из-за спин. — Поднимай.
Нижние выжали передок на руках и стали переходить на следующий марш лестницы, верхние ступали за ними, балансируя и держа горизонталь.
— Нет, упирается, — сказал Шпонык. — Не развернём. Углом упирается.
— Развернём, — сказал Пустовол, и они с напарником подняли свой край под самый потолок.
— Головой надо было вперёд, — сказал кто-то сверху, — а то нехорошо получается, голова внизу.
— Головой не положено, — возразили ему, — положено ногами. Придерживай там.
— На простыне надо было, — сказал Шпонык.
— Поздно, — сказал Пустовол, — не возвращаться же.
Наконец, как-то увернулись. Пропахав по штукатурке. Отчего с угла повис красный лоскут, и обнажилась не струганная древесина. А вниз посыпалась известковая пыль. И бренькнула гитара.
— Вы чё там, офигели, — сказали снизу, — со своей мебелью.
И гитара опять бренькнула.
На девятом этаже, у лифта, торчала под единственной лампой молодёжь. Человек пять. Один из них держал гитару, другой шприц, остальные сонно курили.
— Разрешите пройти, — сказал с лестницы Шпонык.
— Иди, — сказала молодёжь, — кто тебе не разрешает. — Но всё же отступила гуськом в глубь коридора и стала не видна в его темноте. И не слышна.
Вроде чуть приловчились. Поворачивали над перилами, приподнимали один край, слегка накреняли и ступали по ступеням к площадке. Там останавливались передохнуть, и всё снова по той же схеме.
Теперь двинулись вниз и те, кто толпился в квартире. Брали со стола цветы и потихоньку выходили.
— А дверь кто-нибудь запрёт? — спросил Шпонык. Не у кого-то спросил, поимённо, а так — у всех и ни у кого. И никто ему не ответил. Все двигались молча или тихо переговариваясь между собой:
— Такая молодая.
— Да.
— Это всё анаболики.
— Кто?
— Что кто? Анаболики, — говорю, — и нагрузки.
— А родители у неё живы?
— Наверно. Молодая же.
— Они тут?
— Не знаю. Должны.
А дверь — не доглядел Шпонык — таки не заперли, и в неё вошла кошка. Понюхала остатки цветов. Запах ей не понравился, и она шмыгнула обратно. И больше её никто не видел.
Следующие два этажа прошли без помех, гладко. На третьем спугнули парочку. Возможно, влюблённую.
Он прижал её к трубе мусоропровода, приподнял и орудовал в порыве нежности снизу. Пока что рукой. Заметив боковым зрением приближение процессии, прекратил, отстранился, и она съехала на пол. И побежала шлёпанцами по коридору в свою квартиру. А он, секунду подумав, за ней не побежал — рванул по лестнице вниз. Застеснялся.
— Помешали, — сказал Пустовол.
— Наверстают, — сказал Васёк.
Ещё двумя этажами ниже народ с утра веселился. Танцы выплеснулись в коридор. Куда же ещё. В этих домах всё выплёскивается в коридор и за его пределы. Двери были открыты, и люди под музыку сновали на просторе из одной квартиры в другую.
Здесь опять остановились — несмотря на чужой праздник.
— Тихо вы, — крикнул напарник Пустовола. — Заткнитесь.
— А мы тебя обыскались, — сказала нежно подпитая тётка. — Виновник торжества, а пропал.
— Не пропал я, — сказал напарник. — Не пропал. Скоро приду.
— Ну смотри, — сказала тётка. — Напитки ждать не могут. И Ленка психует.
— Свадьба? — спросил Пустовол.
— День рожденья, — сказал напарник, — тридцать пять стукнуло. Вчера. — И ещё он сказал: — Дожил.
— А она у меня на свадьбе, — сказал Пустовол, — танцевала. Со мной.
Танцует и говорит сверху: «Не дыши, — говорит, — мне в грудь. Ты меня возбуждаешь». Шутила.
— А я её любовником был, — сказал напарник. — И Васёк тоже был после меня, вторым любовником, — он кивнул головой на заднего со своей стороны мужика. — А больше у неё никого и не было.
— Странно, — сказал Пустовол. — Такая красавица. И загребная была — от бога.
Всё время, пока отдыхали, Шпонык закидывал руку за спину и трогал разрыв на своих штанах, трогал и вздыхал. Видимо, штаны были сравнительно новыми.
— Ну, отдохнули? Тогда вперёд.
— Вперёд и вниз, а там… — сказал Пустовол, и прозвучало это глупо.
А буквально через два шага занервничал Васёк.
— Стойте, — сказал он, — стойте.
— Что? — сказал Шпонык. — Что такое?
— Ничего, — сказал Васёк и, пристроившись лопаткой к углу, почесался. — Пошли.
Теперь уже без остановок. Не остановились бы и на первом этаже, но там дети назло зиме занимались летним видом спорта. Ставили мяч посреди коридора, разбегались и били. А у торцовой стены стоял вратарь. Света не было. Поэтому били с фонариками в руках. И как только Пустовол с напарником ступили на площадку, мяч пролетел мимо вратаря, ударился в стенку и отлетел обратно. «Гол!» — заорали дети, а мяч выкатился под ноги несущим.
Он прокатился мимо Пустовола с напарником, и Васёк аккуратно на него наступил. И споткнулся. И устоял.
— Мать вашу, — сказал он в сердцах, когда восстановил равновесие.
Футболисты на его ругань не обиделись.
— Дядь, кинь мячик, — крикнули они, наведя на Васька фонарик.
Васёк нащупал мяч ногой и ткнул его носком туфли.
Сошли с отдельных трёх ступенек — последних перед выходом.
— Приехали, — сказал Пустовол, упершись в дверь подъезда.
Открыта она была лишь наполовину. Вторую створку держал шпингалет, и на ней было нарисовано большое красное сердце. А в сердце чёрным написано: «Хуй вам».
Шпонык посмотрел на часы.
— Одиннадцать, — сказал он. — Вовремя. — И сказал: — Приподнимите её повыше.
Мужики подняли мёртвую на уровень плеч, Шпонык подлез снизу и, перевалившись через свой живот, ковырнул нижний шпингалет. Верхний, как выяснилось, заперт не был, и дверь, качнувшись, отъехала сама по себе. Без посторонней помощи.
И люди вышли из тёмного подъезда на снег.
Солнце ударило по глазам.
Все прищурились. И одновременно подумали:
«Хорошо как!»
И Шпонык подумал, и Пустовол, и напарник его, и Васёк. Да и остальные точно то же подумали. Потому как, а что же ещё могли они тут подумать?
2010
Вот так
Почему эту старуху подложили ей в палату, Марьяна понять не могла. Сама она лежала здесь по праву. Её муж был очень серьёзным человеком. Начальником райотдела милиции. И в городе он мог всё. Или почти всё. А уж обеспечить отдельную палату законной супруге — это как два пальца…
И вдруг приходит какая-то бабка при смерти. В чулках и халате. Садится на пустую койку и начинает доставать из кулька пожитки. И раскладывать их по местам. Что-то в тумбочку, что-то в холодильник. А бутылку с компотом кладёт на батарею отопления. Чтобы, значит, пить его в тёплом виде. Потом она ложится на кровать, как у себя дома. И лежит. До прихода лаборантки.
Обычно лаборантка берёт у больных кровь в холле отделения. В порядке живой очереди. А к Марьяне в палату заходит в знак уважения лично. Чтоб, значит, ей не беспокоиться и в очереди не сидеть. Сегодня она тоже пришла. Но сначала у бабки кровь взяла, а после уже у Марьяны. То ли унизить хотела, то ли что. Марьяна ничего лаборантке не сказала, о чём ей было говорить с лаборанткой. Она просто на красную кнопку нажала. А когда прибежала медсестра, спросила:
— На каком основании мне тут подселили? Вы знаете, кто мой муж?
Медсестра знала. Но виду не подала.
— И вообще, — сказала Марьяна, — я вам за что тут плачу?
— Все платят, — сказала медсестра, — а мест нету. Диспансер не резиновый.
Старуха в разговор не вмешивалась. Поёживаясь под одеялом и глядя в потолок.
— Вызовите мне главврача, — сказала Марьяна. — Я требую.
— В отпуске, — сказала медсестра и нахально ушла.
А вечером к старухе пришёл сын. И Марьяна всё поняла. Сына этого она часто видела по телеку. Вредный такой жидок. Всё ему было не так. Всё плохо. Всех он выводил на чистую воду и уличал. Невзирая даже на лица. Она ещё думала: «И как его до сих пор серьёзные люди не грохнули? С таким языком. Давно пора грохнуть».
На его улыбочки и его «здравствуйте» Марьяна решила не отвечать. Промолчав. Но он и не настаивал. Он палату взглядом обвёл и остался доволен. Только спросил у бабки:
— Ну как тебе тут?
А она сказала:
— Лучше бы мне в обычной палате лежать. С людьми.
Короче, не зря Марьяна протестовала и отстаивала своё, положенное. Первая же ночь с бабкой показала, что не зря. Бабка кряхтела, кашляла и ходила, шаркая, в туалет. Когда она приподнималась, чтобы взять с батареи бутылку, кровать противно скрипела, когда сжимала пластик пальцами, он трещал. Марьяна не могла уснуть и сатанела. Длилось всё это до утра. И на обходе она высказала врачихе всё.
Врачиха слушала невнимательно, просматривая свежие результаты анализов. А просмотрев, сказала:
— Не о том вы печётесь, больная.
Так и сказала: «Печётесь».
Ну, Марьяна, конечно, ей объяснила доходчиво, что она не печётся, а настаивает на отдельной палате.
— Ничем не могу помочь, — врачиха отвернулась к старухе. — Распоряжение завотделением.
— Пусть придёт, — не унималась Марьяна.
— В отпуске, — отвечала врачиха. Наверно, врала.
Муж обещал посетить Марьяну в выходные. В остальные дни он работал. А её навещали мать и дети Марьяны — мальчик и девочка. Мать пыталась Марьяну кормить. Доставала пюре, бульон, икру. Красную или чёрную. Но Марьяну тошнило и от запаха пищи, и от вида. И сильнее всего тошнило от икры.
— Убери, — говорила она. — Тошнит.
Мать убирала еду и садилась на табуретку. Сидела почти всегда молча. Иногда по щекам у неё текли слёзы.
Дети Марьяны выглядели забитыми. Играя, разговаривали шёпотом. Смеялись редко. За что Марьяна на них орала. А то вдруг начинала бешено целовать, притягивая обоих к себе. Дети пугались. Хныкали. Просились домой.
В субботу муж не пришёл. Пришёл в воскресенье. И Марьяна закатила ему истерику. Мол, опять от тебя водкой несёт, мол, обещал отдельную палату, а мне бабку подсунули.
Старуха слушала её вопли, укрывшись, и шевелиться опасалась.
Муж куда-то сходил, видимо, позвонить. Минут через десять вернулся.
— Понимаешь, — говорит, — у неё сын — пресса, областное ТВ.
— Плевать.
— Тебе плевать, а с ним сам полковник Марченко связываться не стал.
После ухода мужа Марьяна полночи плакала. Уткнувшись лицом в подушку. От бессилия. «Тоже мне, начальство, — злилась она, — какого-то еврея боится тронуть».
Зато сама она не боялась. Ей бояться нечего.
— Купите вашей мамаше термос! — это Марьяна выкрикнула, как только старухин сын вошёл в палату. — У вас что, нет денег на термос?
— Какой термос? — опешил сын. — Зачем?
— Чтобы она не шуршала тут. Я спать не могу.
Старуха медленно вылезла из постели и сказала:
— Пойдём отсюда, — а в коридоре стала проситься в обычную палату.
— Я же не ветеран, — упрашивала она, — я всю войну в эвакуации была. В Фергане. А палата для ветеранов.
— В обычных палатах по шесть человек лежит, — говорил сын, — а то и по восемь.
— Вот и хорошо, — говорила старуха.
А сын говорил ей:
— Мам, ты только не капризничай. В пятницу пойдёшь домой. А на следующий курс положим тебя в обычную.
В конце концов старуха смирилась и сказала:
— Ну иди, а то на работу опоздаешь.
И вернулась в свою палату, чтобы лечь. И лежать не вставая. Она даже компот не пила. Хотя во рту у неё пересохло.
В понедельник неожиданно явился муж Марьяны. Её как раз от капельницы отсоединили.
Он сел у кровати. Оглянулся на старуху и сказал:
— Вот, лекарство тебе достал. Австрийское, — и показал красивую коробку.- Это тебе не химия их.
Марьяна заулыбалась. Хотя было ей совсем хреново. После капельницы всем хреново, а ей — просто хоть помирай.
— Дорогое? — спросила она.
— На платине, — сказал муж. — Но можем себе позволить.
Марьяна тронула коробку рукой.
— Я врачихе так и сказал — чтоб супруга моя была здорова, как штык. Иначе, сказал, гарантирую неприятности.
Марьяна взяла коробку. Под прозрачной крышкой лежали маленькие аккуратные бутылочки.
— Сестре выдавать по штуке, — продолжал муж. — И следить, чтоб колола тебе, а не своим друзьям.
— Прослежу, — сказала Марьяна. — Будь уверен.
Муж спрятал коробку в тумбочку. Сказал:
— Ну, я пошёл? А то дела.
— Иди.
С минуту Марьяна лежала тихо. Потом сказала старухе, поскольку больше в палате никого не было:
— Вот так, — сказала она, — ясно вам? Всем? На платине.
2016
Шопинг
(почти святочный рассказ)
Кто-то когда-то, очень давно, объяснил Бармину, что в Новый год нужно вступать обновлённым. Желательно с головы до пят. В Европе, мол, с жиру из окон диваны выкидывают, на которых ещё спать и спать, и обзаводятся новыми. То же и с холодильниками, и с телевизорами. Кто всё это ему рассказал — Бармин не помнил. Может, и по телевизору говорили. Или по радиоточке в кухне. Но что говорили — точно. Поэтому Бармин и посвящает один выходной в конце декабря тотальному, как говорится, шопингу. Многие уже годы посвящает. Вернее, десятилетия. То есть он ходит с утра до вечера по магазинам. Мурлыча себе под нос что-то вроде: «И вечный шоп, покой нам только снится».
Конечно, в это время в магазинах не протолкнуться и даже упасть негде. Потому что везде большие скидки и люди массово скупают подарки для своих близких. Бармин давится в этих праздничных толпах, хотя подарков он никому не покупает, а покупает себе носильные вещи. Для очередного обновления внешнего вида. Он, может, и купил бы подарок. Если бы знал, кому. Но он не знает. И покупает носки, нижнее бельё, брюки, рубашку, пиджак и галстук. Он тщательно советуется с продавцами-консультантами, и они говорят ему, что модно, что красиво и какой галстук идёт к его сединам. Среди консультантов попадаются довольно симпатичные девушки, и Бармин беседует с ними не без удовольствия. Тем более они ему приветливо, хотя и профессионально, улыбаются, а то и приносят вещи в примерочную. Видя, что он к ним с серьёзными намерениями, а не просто голову морочить.
Обувь Бармин тоже покупает себе ежегодно. А пальто нет. Пальто носит и по два, и по три года. Потому что пальто выходит из строя медленно. Медленнее, чем пальто, изнашивается только галстук. У Бармина в шкафу галстуков этих скопилось за годы — не сосчитать. И все на вид почти новые. «В „Красный крест“ их, что ли, пожертвовать», — думает иногда Бармин. А не жертвует не потому, что ему жалко галстуков, а потому что лень этим заниматься.
Всё купив, с коробками и пакетами, он заходит в кафе «Пельменное». Там грязно, дымно, все пьяны, но там варят настоящие пельмени. Такие пельмени делала когда-то его мама. Бармин заказывает двойную порцию и сто пятьдесят граммов водки. Не торопясь ужинает. Не обращая внимания на шум, гам и драку вокруг. Расплачивается. Отдаёт официанту на чай всё, что осталось в кармане. И выходит на свежий воздух. Правда, он не такой уж и свежий, их городской воздух. Разве что после кафе.
Домой Бармин идёт пешком. Это не близко, но и не очень далеко. Зато навстречу ему люди попадаются. Пусть и незнакомые, но всё-таки живые и разные. Трамваи звенят звонками и светятся изнутри сквозь окна. Машины проносятся шурша. Светофоры подмигивают. В общем, на каждом шагу жизнь бьёт ключом и бурлит во всех своих проявлениях. И настроение Бармина всё улучшается и улучшается, и постепенно он начинает про себя думать: «Ну, ничего, мы ещё увидим свет в конце подвала».
А пришёл Бармин, щёлкнул выключателем — одна лампочка в люстре тут же перегорела и пробки выбила. Он шкаф отодвинул, открыл на ощупь щиток и пробку заменил. Чтоб уж в новый год и с новой пробкой прийти. Потом снял с себя всё старое, а всё новое, наоборот, надел. Всё, вплоть до носков в клеточку. Постоял перед зеркалом. Причесался. И зачем-то решил на ночь глядя побриться. И побрился электробритвой «Бердск-9». Потом порылся в кладовке и влез на стол. Привстал на цыпочки, потянулся и пальцами сковырнул с крюка люстру. Люстра повисла на проводах. А на крюк Бармин накинул верёвку. Накинул и задумался: что дальше делать. Стол у Бармина массивный и тяжёлый. Поскольку из дуба. Его без посторонней помощи не оттолкнёшь и с места не сдвинешь. А на помощь позвать, в общем, некого.
Бармин переступил с ноги на ногу. Стол скрипнул. Бармин поправил галстук и посмотрел в окно. За окном тихо шёл снег. Не первый, конечно. Но, видимо, и не последний.
2019
Звезда Леонида Петровича
Жил Лёня хорошо, ярко и успешно. Заслуженно став к сорока годам согласно занимаемой должности Леонидом Петровичем. А также супругом, отцом, любовником и так далее, и тому подобное. И умер он хорошо. И, можно сказать, красиво. В день своего рождения. Пришёл из ресторана домой, упал, и всё. Инфаркт миокарда. Обширный. Как положено. То есть мог бы он вполне и посреди шумного бала упасть. Испортив людям веселье и оставив в их душах неприятный осадок. Но он не упал. А дотянул, как говорится, до родного аэродрома. В смысле, порога. И уже там, за ним, позволил себе скоропостижно скончаться.
Очень много людей искренне сожалело о его безвременном уходе в мир иной, о чём было сказано даже в прессе. А правительство отметило это событие своим постановлением о присвоении имени Леонида Петровича одной звезде и одному переулку в новом районе, которого ещё не существовало на плане города. Потому что район только строился. Или проектировался. Неважно.
И конечно, плохо, что Лёня, в смысле, Леонид Петрович, скончался. И плохо, что рано. Но хорошо, что он жил среди нас. И жил не напрасно и не зря. Многого достигнув в жизни. Гораздо большего достигнув, чем положено рядовому члену общества, гражданину и человеку. И деревьев насадил у себя на приусадебном участке рощу, и усадьбу построил с гостевым туалетом, и сына родил, и написал не одну книгу, и оставил после себя учеников. Вернее, не один научный труд в своей области он написал и не один патент запатентовал.
И конечно — деревья и усадьба, и сын, и авторские права на труды Леонида Петровича, и ученики — всё перешло по наследству его верной жене и супруге навсегда. Ну, и плюс звезда в небе. А также переулок. Хотя нет, с переулком вышла маленькая незадача. Поскольку район этот в конце концов так и не построили. То ли денег у бюджета не хватило, то ли стройматериалов, то ли их все украли. Пока неясно. Но это не главное. Хуже обстоит дело с усадьбой. Которую содержать без Леонида Петровича и его денег стало невозможно. Так что пришлось его жене и супруге срочно выходить вторично замуж за шапочного знакомого, который клятвенно обещал, что всё будет хорошо и пусть она не волнуется. Но обещания своего знакомый этот шапочный не сдержал и усадьбу продал за долги. Вместе с рощей. Ну, так получилось. Поскольку он как раз в это самое время обанкротился и всё, что имел, потерял. Пойдя с новой, пусть и не совсем молодой женой, по миру.
Могла бы вдова и супруга Леонида Петровича на выплаты от его патентов жить и существовать. Но какая-то сволочь, из его учеников между прочим, обвинила покойного в том, что патенты эти чужие он присваивал, пользуясь своим выгодным служебным положением в обществе, и дело в суде у покойника эта сволочь, естественно, выиграла, запятнав его честь и достоинство. И лишив жену Леонида Петровича, ныне вдову, последних средств хоть к какому-нибудь существованию. Так что осталась у неё на память о покойном муже одна звезда под названием «Леонид Петрович» и больше ничего. Правда, звезда эта сверхмалая. И хрен знает где во Вселенной подвешена. И проку от неё никакого.
2019
Мокрый асфальт
Велосипедная дорожка пролегает сквозь парк. И Степан Ильич идёт по велосипедной дорожке. По ней же едут велосипедисты. И люди на роликовых коньках тоже едут. Поодиночке и семьями. Туда и обратно. Палые листья застревают в роликах. Но они всё равно едут. Заботясь о своём досуге и здоровом образе жизни.
А он идёт и идёт. Потому что парк длинный. И он по нему, по парку этому, идёт. Думая, что гуляет. Хотя на самом деле он размышляет. Размышлять на ходу у него получается лучше, чем в состоянии покоя. Ненамного, но всё-таки. Если это можно назвать размышлениями. Скорее, наоборот, он старается не думать. О том, что само думается. Бежит от думанья. Ну, то есть не бежит, а идёт. Идёт и дышит воздухом. Провожая взглядом обгоняющих его велосипедистов. И разговаривает сам с собой. О том, что семьдесят пять лет — это много. Но, во-первых, совсем не конец, а во-вторых, помирать не так уж и страшно. Он не первый день уже чувствует, что слово «навсегда» перестало пугать его своей неизбежностью и непоправимостью. Главное не думать о числах. И смотреть в будущее с оптимизмом.
Вон у него почти все зубы свои. За редким исключением. Никто в это не верит. Но они свои.
И бегает он по утрам, как конь.
И два раза в неделю ходит в бассейн. Где проплывает километр.
Старшая сестра Степана Ильича дожила до девяноста одного года. В смысле генов это плюс. Правда, брат умер в шестьдесят.
Но это ни о чём не говорит. Ему же не шестьдесят.
Ему семьдесят пять. Да, конечно — финишная прямая не за горами. При этом свои зубы, бег по утрам, бассейн.
И тем не менее, в голову лезет, что родиться оптимистом можно. Можно даже оптимистом жить. Но умирать оптимистом всё-таки нельзя. Если ты, конечно, не полный идиот. А Степан Ильич не полный. Он и вообще идиотом никогда не был. Сволочью часто был, вором и мошенником был, бабником был. То есть был и остаётся по сей день. Поскольку по сей день у него есть действующая любовница.
И жена тоже есть молодая. Молодая в полном смысле слова. Потому что моложе Степана Ильича на сорок пять лет. Женился он на ней по любви. Влюбился лет десять назад — и, приложив много усилий, женился. А может, не десять, может, больше лет назад это было. Точно он, к сожалению, не помнит. С памятью у Степана Ильича в последние годы не всё в порядке. Единственное, что его иногда подводит — это память.
Он пытается себя утешать, мол, по сравнению с другими моими ровесниками у меня ещё всё хорошо. И со здоровьем, и с женщинами, и даже с памятью. Потом сам себе задаёт вопрос: «А без сравнения?» И сам же себе отвечает: «Без сравнения хуже».
Так что подробности любви своей самой последней он подзабыл. Это первую любовь помнят всю жизнь. А последнюю забывают мгновенно. Поскольку последняя любовь приходит с маразмом одновременно.
Но что женился он на девчонке — факт. Жена будущая, когда он предложил ей руку и сердце, долго смеялась.
Степан Ильич в ответ долго молчал. Слушая её смех. Потом сказал:
— Каким всё-таки смешным бывает то, что совсем не смешно.
— Бывает, — сказала будущая жена и фактически послала его:
— Найдите, — сказала, — себе пару в доме престарелых ветеранов.
На это Степан Ильич ничего не ответил, дав задний ход. И какое-то время обдумывал, как быть и что предпринять. А потом просто вызвал её папу, который у него работал, перешёл с ним на «ты» и сказал, что… ну, в общем, он нашёл, что сказать. И от сказанного и обещанного у папы отказали все внутренние органы чувств, и он путём железных аргументов постепенно убедил дочку. Если не полюбить, так хоть выйти за Степана Ильича замуж. В общем, деньги сыграли тут свою роль. Не могли не сыграть.
Конечно, жена не знала, сколько у него по-настоящему денег. Он это не привык афишировать. Ещё с тех пор, когда был цеховиком. И на территории ракетного завода, куда ОБХСС даже войти не мог, организовал производство фальшивого маргарина. «Да, были времена», — вздыхает Степан Ильич. И вспоминает, как таскал в авоське полмиллиона советских рублей. Завёрнутых в две газеты «Правда». Каждый день таскал. Потому что и на работе боялся их оставлять, и дома. Зато на первое мая он щедрой рукой нанимал катер, и вся его левая артель ехала по Днепру кататься. С парикмахершами, цыганами и прочими народными артистами Эсэсэсэр и Кабардино-Балкарии. И было это, когда его последняя любовь ещё не родилась даже.
Друг Егорыч с самого начала ему внушал:
— Учиться, жениться, рожать детей, разводиться — всё в жизни надо делать вовремя.
— Надо, — соглашался Степан Ильич. — Но это скучно.
— Ну тогда скажи ей, сколько у тебя бабла на самом деле, — советовал Егорыч. — Она сразу в тебя по уши влюбится.
А Степан Ильич ему отвечал:
— Я же хочу, чтоб она любила не мои деньги, а меня.
— Но ты учти, — говорил на это Егорыч, — что в случае чего и не любить она будет тебя, а не твои деньги. Этим кончится.
Не прав оказался Егорыч. Кончилось не этим. Кончилось всё другим.
Степан Ильич жену спрашивал:
— Слушай, ну как ты могла?
А она:
— Да элементарно.
И припоминала ему любовницу, сауну и прочие старческие шалости. Которые Степан Ильич оправдывал просто: «Сколько, — говорил, — я ещё проживу? Лет десять-двенадцать. Так надо успеть взять от жизни всё, что от неё осталось». При этом лукавил он, конечно, бессовестно. Потому что умирать не собирался. Ну, так он себя чувствовал. Молодо и бодро. А подлость свою и вину перед женой — охотно признавал:
— Да, — говорил, — любовница — это свинство с моей стороны, но люблю-то я только тебя.
— И как тебе удаётся? — удивлялась жена. — Жить по отношению ко мне, как скотина, и при этом меня любить?
— Если бы мы с детства понимали, что ничего нельзя исправить, — объяснял жене Степан Ильич, — жить можно было бы совсем иначе. Но это понимание приходит ближе к концу. Когда с таким же успехом могло б и не приходить. И кстати, я всё-таки никого тебе не родил.
Жена говорила, что не понимает, чего он так психует и что вообще такого ужасного произошло и случилось. Ну да, у неё родился сын. Но родился же, не умер. Чего по этому поводу так нервничать? На старости лет.
— Действительно, — говорил Степан Ильич, — сыном больше, сыном меньше…
Сыновей у Степана Ильича точно — хватало. От каждой бывшей жены по бывшему, можно сказать, сыну.
Да и от нынешней сына тоже ему засчитали. Как оказалось, по закону — за кем ты замужем, того и дети. Степан Ильич очень веселился, узнав подробности. Жена им в загсе говорила:
— Я мать, я знаю, кто отец моего ребёнка!
А они:
— Это хорошо — бывает, что и не знают. Но это вы потом будете отцовство устанавливать и доказывать. А пока отцом можем записать только мужа вашего, официально признанного.
И главное, от денег отказались наотрез, дуры.
— Так значит, у меня теперь четыре родственничка? — веселился Степан Ильич.
Он детей своих всех родственничками называл, не иначе. Имея на то некоторые основания.
Например, старший его сын однажды проиграл в казино свою квартиру. Степан Ильич ему квартиру купил, а он её проиграл. После чего подослал вооружённых бандитов — требовать денег.
Понятно, что ничего ему не обломилось, несмотря на бандитов — Степан Ильич и сам был, мягко говоря, причастен, — но осадок остался.
Средний случайный сын от второй случайной жены, тот вообще во всех анкетах, в графе «отец», пишет «умер».
Правда, младший, хоть и ненавидит Степана Ильича искренне, но никакой гадости ему за свои двадцать лет ещё не сделал. Возможно, просто не успел. Ему Степан Ильич даже наследство собирается после себя оставить.
Первая жена по старой дружбе его воспитывает, мол, ты в зеркало на себя посмотри. Тебе о душе пора думать и о здоровье. А он смотрит в зеркало, кривляясь, произносит «да-а, из-мель-чал» и напоминает, что регулярно бегает и посещает бассейн.
— А после бассейна, — говорит первая жена, — в сауну. С любовницей или с девками.
Степану Ильичу возразить нечего, потому что это он тоже считает для своего здоровья полезным. А что такое душа, представляет себе слабо. И как о ней можно думать и беспокоиться, понятия не имеет.
Да и есть ли она, душа эта? И кто её видел?
Ну, непрошенного отца Степан Ильич с лица земли стёр. Ещё до рождения ребёнка. Начальнику налоговой позвонил: «Сделай, — сказал, — доброе дело, я в долгу не останусь». Степан Ильич, может, и не стал бы до этого опускаться. С высоты своего положения и полёта. Но задело его за живое. Что изменяла жена с каким-то директором автосервиса. Который ему же, Степану Ильичу, и принадлежит. И директора этого он своими руками из ничего слепил. В память, можно сказать, о друге. В асфальт закатанном ещё в девяносто третьем. Хотели Степана Ильича туда закатать, но он ухитрился своей участи избежать. А другу повезло меньше. Потому что не дозвонился до него Степан Ильич в нужный момент — чтобы предупредить. Пытался дозвониться, честно пытался — не получилось. Зато теперь как человек приличный поддержал в жизни его сынка. Одним из своих автосервисов руководить доверил. А он, значит, отблагодарил.
«Небось, в машине, — думал Степан Ильич, — или в кабинете на столе ребёнка делали». И это его почему-то просто сводило с ума — то, что в машине или на столе. Вот он и напряг налоговиков. И директора этого тут же закрыли. Пока, конечно, на время следствия. А там видно будет.
Жена сначала ему угрожала. Говоря:
— Ты учти, проскочить без наказания не удаётся никому. Не все просто понимают, что происходящее с ними — это наказание и есть.
— И что ж такого со мной происходит, и кто это меня накажет? — спрашивал Степан Ильич.
— Да хоть бы и бог, — говорила жена.
А он отвечал:
— Лет семьдесят только и делаю, что жду его наказания. Никак не дождусь.
Потом жена начала срываться. Кричала, что сука он и рогоносец, и старый подонок, а он слушал всё это и радовался. Тому, что снова довёл её до истерики. Чувствовал себя последней сволочью, говорил «тебе вредно нервничать» — и опять радовался.
И сейчас, на этой прогулке, радость потихоньку начинает охватывать его. Медленно поднимаясь изнутри, из глубин организма. Неясная какая-то радость. Беспричинная. Он даже приплясывает, идя по велосипедной дорожке, и напевает что-то бравурное. От радости своей внутренней.
Ноги ступают по мокрому, а он идёт, пританцовывая и похлопывая себя по бёдрам, пока не слышит над собой:
— Де-е-е-д! — и, резко вильнув, его объезжает велосипедист.
Степан Ильич осматривается и обнаруживает себя прямо на проезжей части, посредине. Где все велосипеды и конькобежцы минуют его с трудом. Как препятствие.
— Простите, — говорит Степан Ильич в пространство и пытается посторониться. И делает два шага к обочине. — Простите.
И то, что его объезжают слева, он замечает, а что сзади несётся гонщик-любитель, заметить Степан Ильич не может. Глаз на затылке у него нет. Гонщик, понимая, что тормозить на листьях бессмысленно, пробует проскочить справа, по обочине. И проскакивает. Только педалью задевает Степана Ильича сзади, ниже колена.
Если б не мокрые листья на мокром асфальте, Степан Ильич на ногах устоял бы. Это точно. А сейчас он видит, как мелькают перед глазами носки ботинок. Как кепка летит, вращаясь. Как садится на ветку птица.
Ещё одно мгновение Степан Ильич силится понять, почему он всё это видит.
Была бы у него в запасе лишняя секунда — он бы, конечно, всё понял. А так — нет, не смог. Но может, оно и к лучшему.
2014
На смертном одре
Фамилия у Стаплера редкая и смешная: Стаплер. И он лежит на смертном одре. Лежит давно, но голова его продолжает думать: «И почему мне, — думает голова, — не хочется помирать? Даже как-то странно». В этом месте раздумий за стенкой стихает телевизор, и Стаплер слышит, что жена его — как это часто случается, тоже Стаплер — входит в спальню. Неслышно, как мышь на цыпочках. Само собой, со стаканом воды.
— Да не хочу я воды, — говорит Стаплер в темноту.
Жена огорчается и незаметно выпивает воду сама.
— А чего хочешь? — спрашивает.
— Ничего. Умираю я. Одёр-то смертный. Но умирать почему-то не хочется.
— А кому хочется?
— Не знаю, — говорит Стаплер. — Наверное, никому. Но и жить не хочется.
— Всем не хочется, — говорит жена и вспоминает о чём-то своём, — тем более в расцвете сил.
— Я вот думаю, — говорит Стаплер.
— Что?
— Что всем моим одноклассницам сегодня по шестьдесят пять лет, и все они — те, кто жив — уже старые.
— Да. Все, — говорит жена.
— Неужели все-все? Без единого исключения? — говорит Стаплер. — Не может быть.
— Это от нас не зависит, — говорит жена.
— От нас ничего не зависит, — говорит Стаплер.
— Может, коньяку?
Стаплер задумывается.
— Давно я не пил коньяку, — говорит он. — А какого?
— «Хеннеси», — говорит жена. — Или «Мартеля».
— Откуда у нас «Мартель»?
— Прихожане принесли, — говорит жена. — Как обычно.
Прихожанами она зовёт пациентов своей частной клиники «Реагент» — реанимация гениталий, в смысле. Они часто приносят ей сверх сметы «Хеннеси», «Мартель» и другие благородные напитки. Говорят — за доставленное счастье в личной жизни.
— Неси, — говорит Стаплер.
Они выпивают по глотку «Мартеля». Хотя лёжа на одре выпивать неудобно. «Мартель» растекается по организму. И они выпивают ещё.
— Что там с Россией? — спрашивает Стаплер после третьего глотка.
— Да в жопе твоя Россия, — говорит жена. — В глубокой.
— Теперь я понимаю, почему у людей оттуда такой взгляд на вещи.
— Какой такой?
Стаплер пытается сформулировать, найти подходящее слово. Но ему это не удаётся.
— Ладно, умирай пока, — говорит жена. — Не буду тебе мешать.
Она собирается уйти в свою комнату. Стаплер её останавливает.
— После моей смерти, — говорит он, — избегай случайных культурных связей. Очень тебя прошу. Избегай.
— Поживём — увидим, — говорит жена. — Коньяк оставить?
«Вот дура, думает Стаплер. — Ну зачем умирающему человеку коньяк»? — и почти шёпотом произносит:
— Оставь.
2020
Чай с испанским королём
Нет, если подходить непредвзято, то хорошим он был мужиком. Мироныч. И честным, и нежадным, и на чужое горе отзывчивым. Несмотря на то, что из интеллигентов с двумя высшими образованиями. Если, допустим, денег кому-нибудь одолжить в разумных пределах до пенсии или кого жена выгнала за блядство, он всегда выручал. Одалживал и от души сочувствовал пострадавшему. И если наоборот, кого-то вернули в лоно семьи принудительно — тоже он сопереживал искренне, оказывая посильную поддержку и помощь попавшему в беду человеку. И выпивал он не сам с собой, как другие представители творческой и прочей интеллигенции, а в кругу знакомых друзей, и угостить мог кого угодно по зову доброго сердца.
А пропал ни за грош. Как многие его соотечественники с незапамятных времён пропадают. То есть не в том смысле, что одинаково пропадают, а в том смысле, что ни за грош. Вернее, он ещё не пропал окончательно и бесповоротно, но дело к тому идёт. И это же притом, что пил Мироныч всегда очень умеренно, в приличных по преимуществу компаниях и приличные более или менее напитки. Прямо как еврей какой-нибудь. В чём его иногда и подозревали.
Да, и всё потому, что был у Мироныча один недостаток. Практически единственный, но существенный. А именно: думать и говорить он мог только о себе. Хоть в обществе, хоть тет-а-тет с аппетитной дамой и в трезвом виде, хоть в любом другом состоянии. А ни о чём постороннем не мог и не умел он ни думать, ни говорить. Ну, не получалось у него. Язык Мироныча всегда сам как-то заводил этот разговор. И всегда об одном и том же. Начинал Мироныч обычно так: «А хотите, расскажу, как я с испанским королём чай пил?» И всех сразу же начинало мутить и корёжить. Не потому, что Мироныч врал. Он никогда не врал. И действительно в расцвете своей карьеры пил чай с испанским королём. И даже возражал ему в ходе церемонии вопреки протоколу, когда тот понёс какую-то чушь насчёт геополитики и вечных ценностей. Но знали об этой его исторической встрече уже миллиона полтора людей, которым Мироныч успел рассказать о ней в течение многих лет лично. И не по одному разу успел. Так же, как и о других своих встречах с великими, сильными и достойными мира сего. И как он этих встреч достиг, и чем добился, и чего ему это стоило. Для этого же много времени или ума не надо. Главное начать. А там слово за слово, всё о себе и выложишь. Вместе с подноготной.
Причём вины Мироныча здесь не было. Ну, так он устроен кем-то, от природы. Он, случалось, зайдёт в Гугл по делу — найти что-нибудь нужное, а пальцы автоматически собственную фамилию набирают. Чтобы он посмотрел, не пишут ли о нём чего-нибудь новенького, чего он сам о себе, может быть, и не знает.
Кстати, в личной жизни, благодаря этому своему свойству, жилось Миронычу так себе. Это мягко говоря. От него только официальных четыре жены в развод ушло и гражданских столько же. Не выдержали они этих его рассказов. Женщины же любят ушами. А ненавидят всем остальным телом. И вообще, всем своим женским существом. Вот они Мироныча и возненавидели. Каждая в своё время по очереди.
А он, когда какая-нибудь из жён начинала от его рассказов выть или бить посуду, говорил, что ты должна в рамках супружеского долга любить меня со всеми моими достоинствами.
На что жёны ему отвечали:
— Тоже мне, достоинства, — и криво ухмылялись.
Потом они уходили к другим мужчинам. Менее нудным и надоедливым. Хотя и менее успешным. И, разумеется, после того как постоянные его женщины разбежались и после того, как пришла к нему неизбежная старость, Мироныч остался в полном одиночестве. И жил один. Или сосуществовал временами с кем придётся. Поскольку ему нужно было, кровь из носа, кому-нибудь рассказывать о себе и своих небывалых успехах в жизни, особенно о встрече с его величеством королём Испании, а также и с другими деятелями мира искусств, шоу-бизнеса и политической арены. Хоть изредка. Хоть два раза в неделю. Ну вот он и приводил к себе с улицы то женщин каких-нибудь одноразовых, потрёпанных многолетней половой жизнью, то мужчин случайных без определённых занятий и средств к существованию. И они, будучи у него в гостях и угощаясь его спиртными напитками, вынуждены были заодно слушать всё, что он им рассказывал. А рассказывал он известно что.
Ну и дорассказывался. Пока какой-то приглашённый им псих не выпил лишнего и не стал обвинять его в том, что он есть иностранный агент влияния, либерал, пиндос и, само собой разумеется, жидовская морда. Против последнего Мироныч, конечно, стал возражать. С неопровержимыми фактами в руках. И псих шарахнул его тяжёлым тупым предметом в область головы и оставил на полу без сознания и первичных признаков жизни. Хорошо ещё, что дверь он за собой не захлопнул входную, и Мироныч был сквозь неё обнаружен и чудом спасён соседями.
Сотрясение мозгов оказалось у Мироныча существенным, но не смертельным. Врачи по долгу своей службы его вылечили. И Мироныч продолжил жить свою жизнь, вышедшую, можно сказать, на финишную прямую. Только теперь опасался он звать в дом кого ни попадя, а никто другой к нему идти не хотел ни за что. Надоел он всем со своими успехами, основанными на реальных событиях. Опостылел. И что с этим делать, Мироныч не знал. Он кошку завести, и то не решался. Хотя кошки бывают хорошими слушательницами. Молчаливыми. Думал: «А вдруг я умру, допустим, во сне от инсульта — что станет с моей кошкой»? После сотрясения он часто думал не только о своей интересной жизни, но и о своей предстоящей смерти. Потому что, приди она внезапно, никто же ничего не узнает до тех пор, пока… Пока… Ну, понятно. Впрочем, в глубине души он всё же надеялся, что ни с того ни с сего не умрёт. А умрёт естественной смертью, от тяжёлой продолжительной болезни, под наблюдением опытного врача. «Но даже если всё кончится хорошо, — думал опять Мироныч, — ну сколько ещё я пробуду на этом свете? Ну десять лет. Ну двенадцать. А кошки иногда живут и двадцать, и больше». И выходило из его размышлений, что одинокий человек в пожилом преклонном возрасте не имеет права даже на кошку, понимая, что кошкина жизнь будет всецело ему принадлежать и от его смерти зависеть. В общем, кошка — кошка, которой у него никогда не было и никогда не будет, стала первым живым существом, отвлекшим Мироныча от себя самого. Он даже разговаривал об этой гипотетической кошке, выпивая вечерами. Сам с собой, конечно, разговаривал. И, если разобраться, всё равно о самом себе. Но не только. Всё-таки не только. Всё-таки и о ней тоже…
2020
Болгарский пиджак
Все утро Лисович проспал. Потому что утро он не любил. А когда спишь, оно проходит само, без тебя и твоего участия, и его как бы вовсе не существует. Нет, конечно, оно существует. Но для других. А для тебя — нет. Лисович с удовольствием проспал бы и день, и вечер, потому что он дни и вечера любил не больше утра, но возможности у него такой не было. И он должен был вставать, идти и трудиться в поте лица. Или сидеть голодным. Чего Лисович совсем уж не любил. С самого раннего детства. В детстве голодным ему приходилось бывать часто. Почти всегда. И он запомнил это детской природной памятью и понял, что чем жить голодным, лучше не жить никак. А не встань он сегодня и не пойди, преодолевая себя, на работу, поесть ему было бы нечего, потому что все свои деньги он истратил вчера. На очень ценную и полезную вещь, но от этого не легче.
Правда, теперь у него есть новый болгарский пиджак. В крупную черную клетку. И купил его Лисович не где-нибудь, а в Пассаже. За копейки. Такие пиджаки продавали при советской власти. В конце месяца для плана. Лисович хорошо помнил этикетки с красной надписью «Рила». Он носил одежду этой дружественной швейной фабрики, когда обе его ноги были при нём, и он был сравнительно молодым и здоровым, и не передвигался тяжёлыми скачками, шагая вместо ноги обрезиненной деревяшкой. Хотя Лисович и сейчас не больной. И не очень старый. Только ноги у него нет. Тут ничего не скажешь. Чего нет, того — нет. И общий вид без ноги у Лисовича не ахти. Зато максимально соответствует профессии. А с другим видом работать Лисовичу было бы на его поприще невозможно. С другим видом производительность его труда обязательно упала бы и перестала отвечать его жизненным потребностям.
Лисович пересёк вокзальную площадь, заполненную бестолковыми, озабоченными людьми с сумками, сетками и тележками, и стал карабкаться по скользкой лестнице. Наверху, у входа в зал ожидания, Лисович постоял, чтобы остыть. Он даже снял с головы рыжую шляпу и помахал ею у лица, как веером.
— Жарко? — спросил у него знакомый сержант милиции.
— Есть немного, — ответил Лисович и объяснил: — Пиджак я надел новый, а тут, видишь, солнце палит.
Лисовичу было приятно говорить о своём пиджаке. Пусть и с сержантом. Которого он не любил за вредность и жадность характера. Зато даже этот недобрый сержант никогда бы не поверил, что в наше время новый пиджак можно купить в магазине за семьдесят рэ. Лисович и сам не поверил, когда ему рассказал про пиджак носильщик Сивый. Но всё-таки пошёл посмотреть своими глазами, проверить и удостовериться, что этого не может быть. Тем более пиджак, который он носил, и для его рода деятельности выглядел потрёпанным сверх меры, и менять его было так или иначе нужно.
И оказалось, что Сивый не обманул и ничего не перепутал. В уценённом отделе этих пиджаков висело видимо-невидимо, всех размеров от сорок шестого до пятидесятого, и на каждой этикетке цена была перечёркнута сначала числом «100», а потом и вовсе заменена на «70». Так что денег у Лисовича хватило.
И вот он в новом болгарском пиджаке пересёк прохладный, несмотря на скопление людей, зал ожидания, вышел на перрон и заковылял к своему законному рабочему месту напротив девятого вагона. Никакого вагона здесь ещё не было. Поезд на посадку не подали, и люди слонялись в ожидании, не зная, чем бы им занять себя в оставшиеся до отъезда минуты.
Именно это время было для Лисовича самым ценным. Он достал из кармана дудочку, бросил на пол шляпу и заиграл. Вначале к нему никто не подходил, люди слышали музыку, озирались, но делали вид, что их это не касается. Потом какой-то малыш потянул маму за палец и сказал: «Смотри, дудочка». И вокруг Лисовича стали собираться слушатели. Теперь уже он делал вид, что они ему безразличны. Он играл. Весь свой репертуар подряд. А репертуар у Лисовича обширный. Богатый, можно сказать, репертуар. От Кобзона до Моцарта и Арама Ильича Хачатуряна. Особенно хорошо исполнял Лисович на своей дудочке «Танец с саблями» и «Турецкий марш». А мог и джазовое что-нибудь грянуть. С импровизацией на вольные темы. Но лучше всего пассажиры платили за Кобзона, Моцарта и Хачатуряна. Вот и сейчас, при первых же звуках «Танца» в шляпу посыпались разноцветные бумажки, и Лисович различил среди них полтинник. От чего запела не только его дудочка, но и его душа. Больше Лисович в шляпу не смотрел. И вообще он не смотрел никуда. Он играл с закрытыми глазами. Потом люди вокруг загалдели и засуетились.
Лисович открыл глаза. Мимо него все куда-то бежали. Он прислушался и понял, что случилось. Поезд, который должен был отправляться с первого пути, подавали на третий. Об этом говорил репродуктор. Конечно, пассажиры и провожающие подхватывали вещи и неслись с ними к подземному переходу.
«Надо уходить, — подумал Лисович, — а то снесут».
Он запихнул дудочку в карман, отставил деревяшку назад, чтобы нагнуться и поднять шляпу с деньгами, поднял её, и тут кто-то за его протез зацепился. И поехал носом по асфальту, тормозя сумками. Лисович тоже не устоял. На одной ноге держать равновесие сложно. Тем более согнувшись. И все бы ничего — мало ли ему приходилось падать и подниматься, — но стоял он у самого края платформы. Кроме того, на первый путь въехала электричка. Видимо, из-за нее поезд и отправлялся с другой платформы.
И всё опрокинулось. Лисович ощутил, как обожгло ему щеку шершавым бетоном, увидел, как мелькнула вверх грязная стена перрона, и ударился о что-то длинное и металлическое. И тут же его накрыло рёвом сирены и шумом ветра, и стуком тяжёлых колёс.
Люди наверху замерли. Они забыли, что торопятся, что их поезд отправляется, что у них много тяжёлых громоздких вещей. Наверное, то, что они почувствовали, увидев валящегося под электричку нищего, называется ужасом. И этот ужас висел над перроном, покачиваясь, как серый густой туман, до тех пор, пока электричка не остановилась.
Сразу несколько человек бросились к краю и посмотрели вниз, а один, не раздумывая, спрыгнул с платформы и закричал дурным голосом «я медицинский работник».
Но медицина Лисовичу не требовалась. Он сидел на рельсах, смотрел на искрошенную в щепки деревяшку, на разодранный пиджак и дико матерился, радуясь продолжению жизни.
1991, 2016
Картинка
Здоров Фёдор был настолько, что если бы не умер от пьянства, не умер бы вообще. Но он умер. Причём именно от пьянства. То есть причина его безвременной кончины была настолько банальна для местности его проживания, что доктор, констатировавший смерть, даже написал её не полностью, а очень сокращённо — Б точка, А точка. В смысле, бытовой алкоголизм. И эта аббревиатура в справке была ясна и понятна всем органам — как власти, так и другим. Тем же, допустим, коммунальным и похоронным организациям. Потому что от этой причины половина населения вышеупомянутой местности помирала или, как минимум, страдала ею при жизни. В том числе, кстати, и доктор, имевший доступ к питьевому медицинскому спирту. Поскольку работал он гинекологом. Или, может, хирургом. А на «скорой» с наркологической спецификой только подрабатывал. Выводя нуждающихся из запоя в свободное от основной работы время на полставки. Кроме того, он и жил с Фёдором по соседству, в непосредственной, можно сказать, близости, будучи лично знакомым, и случалось, с ним по душам беседовал.
Фёдор же кем только не работал, а чащё не работал никем. И всегда говорил: «Надо же мне от чего-то помирать. Так от пьянства — лучше, чем от рака мозгов или СПИДа. Такое моё личное мнение». Уж что-что, а мнение Фёдор имел. Потому как мнение теперь есть у всех. Включая женщин и детей. Мозгов нету, а мнение — сколько угодно. Время наше, видать, такое. Трудное. И место. Может, поэтому и пил Фёдор с утра до ночи весь день. Из-за времени и места. А если так выходило, что день он спал по объяснимым причинам, то пил с ночи до утра. Душа-то у Фёдора была широченная, южнорусская — поэтому никаких полумер она не принимала и не терпела. В отличие от души доктора. Который фактически страдал раздвоением личности. Так как пил только на работе, где спирт. А после работы, где жена — ни-ни. Капли в рот не брал и другим авторитетно не советовал. А когда жена и дети приставали, мол, почему от тебя ежедневно, кроме выходных, пахнет водкой, он объяснял, что это не водка, а спирт медицинский пахнет — ведь врач имеет дело не только с больными, но и со спиртом. Тщательно обрабатывая им руки, чтобы они не тряслись. И тут он был совершенно прав. И честен. И всё это, конечно, плохо кончилось. То есть не плохо, а так, как и должно было кончиться. В смысле, естественной кончиной пациента и вышеупомянутой справкой от вышеупомянутого доктора. Предостерегавшего Фёдора ещё при жизни. По-соседски:
— Фёдор, — предостерегал доктор, — вы знаете, коротка даже самая длинная жизнь. И укорачивать её своими руками — непростительно.
А Фёдор ему в ответ подмигивал и говорил:
— Рыбак рыбака видит издалека. Ты меня видишь? — и хохотал, как дурак, многозначительно. И предлагал доктору при исполнении налить.
Доктор морщился, вздыхал, говорил «вам, Фёдор, в больницу надо» и выписывал какие-нибудь пустые лекарства.
— Не пью я. Ваших лекарств, — говорил Фёдор. И говорил: — В больнице смертью пахнет. И тоска.
— Ну, живите здесь, — говорил доктор, — ещё какое-то время.
— Здесь тоже тоска, — говорил Фёдор. — И картинка рассыпается. Так, что не сложишь.
— Картинка да, — говорил доктор, — рассыпается.
— И у тебя? — кричал Фёдор. — Значит, ты понимаешь?
— Чего ж тут непонятного? — говорил доктор. — С картинкой беда.
Тогда Фёдор говорил:
— Составь бля компанию. Помоги споить русский народ. В смысле, лучшую его часть.
— Лучшая часть — это, что ли, вы? — спрашивал доктор.
— Это что ли мы, — говорил Фёдор. — А ты сомневаешься?
Конечно, доктор сомневался. И порывался уйти, говоря, что у него куча вызовов. Другими словами, вёл себя интеллигентно. Отчего Фёдор распалялся ещё больше. Он орал:
— Не уважаешь? Гиппократ хренов, — и гнал жену в магазин.
А жена, конечно, туда не шла. Сопротивлялась. Скандалила. И приводила все разумные доводы, какие имела. От доводов становилось Фёдору совсем тошно. Тем более она цеплялась к нему, мол, объясни ты мне ради бога, ну почему ты пьёшь? Фёдор ей объяснял, но безрезультатно. Может быть, потому что объяснял он как-то нечётко, расплывчато. Говоря:
— Посмотри вокруг. На мир, то есть. Или на Россию посмотри.
Жена смотрела.
— Ну?
— Видишь картинку? Картинку видишь?
— Ну, — говорила жена.
— А я нет. Понимаешь? Картинка — не складывается. Вернее, распадается картинка. На стёклышки. Понимаешь?
— Нет, — говорила жена. — Не понимаю.
— Тогда в магазин.
— Нельзя тебе, Федя, — плакала жена. — Цирроз у тебя печени. И это, которое по мужской части… Тьфу… Язык не поворачивается слова их научные выговаривать.
— Давай-давай, — утешал жену Фёдор. — Тебе ж коня на скаку это вот — раз плюнуть. Чего ж ты плачешь по пустякам, дура?
А в больницу Фёдор время от времени всё же попадал. Но его старались оттуда побыстрее в шею. Выписать. Недавно он лежал в палате на одиннадцать человек, натурально ловил по ночам чертей, пугая гастроэнтерологических больных, воровал у дежурной сестры микстуру Шарко и пил её из горлышка перед едой. Зато выполнять предписания лечащего врача отказывался наотрез:
— Можете меня, — говорил, — пытать черенком тётиполиной швабры.
Конечно, его выписали вместе с его циррозом и его горячкой. За нарушение строгого больничного режима. Чтобы он тихо помирал дома и никому собой не мешал. Но тихо Фёдор не мог и не хотел. И дома не хотел. Он при первой возможности шёл к людям, напивался там до тех же самых чертей и лез объяснять народу про картинку, про Россию с миром и про тому подобное. Народ ни фига про это не понимал и знать не хотел. Бил Фёдору морду. После чего неисповедимыми путями он возвращался домой. Где продолжал начатое вплоть до вызова и приезда доктора. Который выводил его из пикового состояния, слегка приводил в чувства и уезжал лечить нацию. А Фёдор лежал обессиленный и говорил жене слабым шёпотом:
— Как думаешь, доктор наш еврей?
— Какой еврей? Смирнов фамилия. И перегаром от него прёт постоянно.
— Так может, он подпольный еврей, и перегар использует в целях маскировки. А иначе — почему он доктор? Я ж вот, например, не доктор?
— Ты точно не доктор, ты моё горе, — говорила жена. — Помрёшь не сегодня завтра. А у меня и без того кредит. И долги.
Фёдор умолкал, о чём-то надолго задумывался, потом вздыхал и говорил:
— Нет, опять не складывается.
— Что не складывается?
— Картинка.
Жена, услышав про картинку, снова плакала. Потому что не могла она про неё уже слышать. При всём своём нечеловеческом терпении.
— Слышь, а давай аквариум купим, — говорил плачущей жене Фёдор.
— Аквариум? Зачем?
— Будем на рыб смотреть. Как они в стекло носами тычутся. Рыбы в аквариуме — это ж картинка? Картинка. Рыбы, они отвлекают. И завораживают.
— Тебя отвлечёшь, — говорила жена.
Но про себя надеялась. Хотя её лично неплохо отвлекала телепередача «Давай поженимся». Причём от всего отвлекала. В том числе от цирроза Фёдора и от прочих его человеческих качеств. Правда, чем она это делала — загадка.
Жаль Фёдор, завидев включённый телевизор, бросался на него с кулаками. Чтобы его растоптать. Иногда это ему удавалось.
Жена огорчалась, сметая осколки в мешок. Говорила:
— Телевизор-то при чём? Смотрел бы его, как люди, вот тебе и картинка.
— Картинка?! — зверел Фёдор. — В телевизоре?! — и бросался с теми же кулаками на жену. Хорошо, что она была крепче телевизора и увёртливее. Да и как успокоить Фёдора, тоже знала не понаслышке. Много ли ему было нужно. Для успокоения.
Так вот, когда успокоенный Фёдор проснулся в последний раз, он увидел аквариум. У изголовья дивана, на тумбочке. В аквариуме сновали туда-сюда гупаки, кружили меченосцы и лениво парил вуалехвост. Все они по очереди тыкались носами в стекло, как и мечталось Фёдору. А вуалехвост ещё и воздух хватал ртом с поверхности.
Фёдор попробовал сесть, чтобы навести резкость. Но не смог. Тогда он стал наблюдать за рыбками лёжа. Картинка не распадалась. Хотя подрагивала и двоилась, и шла мелкой рябью.
— Не распадается, — шептал себе под нос Фёдор. — Не распадается.
Потом картинка стала медленно погружаться в туман. И погружалась, пока окончательно не погрузилась.
А через какое-то время — через какое, Фёдор не знал — вместо аквариума перед ним всплыло потное лицо доктора.
— Я ж тебя предупреждал, — сказал доктор.
— Ну предупреждал, — сказал Фёдор. — А хули толку?
После этих слов Фёдора доктор и выписал справку с буквами Б и А. Ничего больше для него он сделать не мог. А придя домой, спросил у жены и детей, у домашних своих, то есть:
— У нас, — спросил, — выпить случайно чего-нибудь нет?
— Выпить? — удивились жена и дети. — Так ты же вроде не пьёшь.
— Не пью, — сказал доктор. — Просто знакомый один умер. Родственная, можно сказать, душа. Хотел помянуть.
— Тоже доктор? — спросила жена доктора.
— Кто? — спросил доктор.
— Ну, знакомый. Который умер.
И доктор не задумываясь ответил:
— Тоже.
2013
В знак благодарности
О том, что Адлер умер, и завтра его будут хоронить, Тома узнала случайно. Поехала на Озёрку за овощами и узнала. Если б муж не любил помидоры с рынка, она б туда и не поехала. А так — вот. Услышала, как две тётки какие-то разговаривают.
Тома не постеснялась и у них спросила:
— Какой это Адлер? Который врач?
Тётки говорят:
— Да, этот.
И она сказала:
— Надо его проводить. В знак благодарности за сына и прочее.
И ещё сказала:
— Где он живёт, ну то есть жил, не знаете?
Тётки отнеслись к ней с пониманием. Переглянулись между собой и дали адрес.
В последний раз на приёме у Адлера Тома была в молодости. Лет тридцать назад. Или чуть меньше. А с тех пор как сына она успешно родила, и всё у неё в организме нормализовалось, Тома его и не видела. За ненадобностью. Сыну летом как раз тридцать стукнуло. Седьмого июня.
Без доктора упомянутого кого-либо родить у Томы не получалось. Она и к врачам ходила, и к бабке, и к известному знахарю без толку ездила.
Тогда бабы ей сказали: «В тринадцатой больнице работает один еврей. Зальман Айзикович. Запомнишь? Запиши. Фамилия простая — Адлер. Если он не поможет, никто тебе не поможет. Потому что все, кто родить самостоятельно, от природы, не в состоянии, к этому еврею обращаются. И он помогает».
Тринадцатая больница была далеко. На другом конце города. Тома даже не знала, где именно. Но бабы объяснили, мол, четвёртым автобусом до завода Коминтерна доедешь, а там рядом. Спросишь.
По своей воле она бы лечиться не стала. Стыдно ей было. Недостатки свои напоказ выставлять. Но муж сказал: «Иди лечись и баста». И сказал: «Мне ребёнок и на фиг не нужен, ты ж знаешь. Я только из армии, считай, вернулся в звании старшины, успею. Но батя говорит — без ребёнка это не семейная жизнь, а половая. И зачем, говорит, мы „Жигули“ покупали обманным путём с переплатой, дом строили, деньги копили, если оставить их будет некому? Не родишь, сказал, наследника — разводись и женись заново. Более удачно. А то и тебе на машине не дам ездить».
В больнице её послали в поликлинику. В поликлинике спросили адрес и тоже послали. По месту жительства. Но Тома туда не пошла. Потому что регистраторша ответила женщине в окошке, что Адлер сегодня с двух часов. Кабинет номер восемь. А времени было почти половина. Она кабинет этот восьмой обнаружила и села возле. Как будто первая в очереди. И Адлер тут же пришёл. Тома сразу поняла, что это он. Ну, во-первых, мужчина идёт в кабинет с табличкой «Гинеколог». А во-вторых, еврей, как ей и обещали. Вообще-то, она евреев от остальных людей отличала с трудом. Знакомых или там родственников среди евреев у неё никогда в жизни не было. Но этого отличила. И вскочила прямо перед ним со стула. Вскочила и говорит:
— Зальман-это-Айзикович. Я к вам.
Он говорит:
— Талончик взяли? Я сейчас переоденусь и приму.
Она говорит:
— Нет у меня талончика. Потому что я из Ленинского района. И детей у меня тоже нет.
Он подумал и говорит:
— Ну заходите. Куда вас девать.
Сам за ширмой переоделся в халат. Вышел. Всё подробно расспросил. Потом осмотрел её, как положено, со всех сторон. В том числе снизу. И говорит:
— Вам нужно в больницу лечь. Пройти курс лечения. Но я вас положить не могу. У вас своя районная больница есть.
— А кто может? Положить. — она спрашивает.
— Завотделением, думаю, может. Марья Ивановна. Но боюсь, она у вас за это денег попросит. А у вас, я думаю, их нет.
— У меня нет, — Тома говорит. — А у свёкра есть.
— Ну тогда как хотите. Она сейчас в соседнем кабинете. Но я вас предупредил.
Вылечилась Тома, конечно, не сразу. В больницу раза три ложилась. С перерывами. И каждый раз заведующей приходилось платить. Свёкор платил молча. Не жаловался. Видно, очень внуков хотел. Говорил только: «Ох и ушлый этот твой Айзикович. Сам к деньгам не притрагивается. Всё через начальницу провёртывает».
Что он там, у неё внутри делал, доктор этот, как лечил и чем, Тома, понятно, не знает. Но всё кончилось хорошо, как в сказке. И она родила сына. Не богатыря, три килограмма всего. И пятьдесят сантиметров. Но здорового — аппетит у ребёнка был такой, что не прокормить…
Поэтому назавтра купила Тома четыре цветка и поехала по добытому адресу. На похороны доктора, давшего, можно сказать, жизнь её единственному сыну. Людей у дома собралось не слишком много. Но всё-таки и не мало. Знать она никого там не знала и знать не могла. Стояла сама по себе и слушала от нечего делать, о чём говорят люди. А говорили они, что надо же, восемнадцать лет человек на пенсии, а сколько женщин пришло с цветами. Узнали как-то и пришли. Значит, помнят его и уважают. Несмотря на то, что посмертно.
И Тома съездила со всеми на Левобережное кладбище. Хотя ехать пришлось стоя. А там женщины стали выходить по очереди и говорить по несколько тёплых слов об умершем. Чаще всего начинали они с «если бы»: «Если бы не доктор Адлер, я бы не выжила, потому что медицина была бессильна. Если бы не он, у меня не было бы детей», — и так далее. Они говорили, а жена доктора, ставшая его вдовой, незаметно плакала.
Тома говорить не собиралась, потому что не умела. Но неожиданно для себя тоже шагнула вперёд и сказала: «Он мне, — сказала, — сына родил. Когда все признали меня окончательно бездетной».
Потом она бросила на гроб кусок жёлтой глины, и он стукнул по крышке, развалился надвое и скатился в яму.
А на поминки Тома уже не поехала. Всё-таки чужой человек. Неудобно. Да и муж скоро должен был с работы прийти. Если её дома не застанет, начнёт кричать: «Я работаю! А ты шляешься где-то. Вместо того чтоб подать мужу обед из трёх блюд».
Они, если честно, плохо живут с мужем. Без чувств. По привычке живут. Пока сын маленьким был — ничего они жили, сносно. Даже в Ялту два раза ездили. А как вырос он и сел, так совсем стали жить скучно и низачем.
Но сын скоро выйдет. Меньше двух лет ему осталось. И всё ещё, может быть, у них наладится.
2021
ВЕЗДЕ ЛЮДИ ЖИВУТ
Кошка в камере
Котёнка он выпросил у посылочных девушек. Это те, что у родственников с воли посылки принимают. У них там целое кошачье царство. И котёнок этот жил с ним уже два года. И превратился из котёнка в кошку. Вадик по камерам шесть лет почти, а кошка с ним, значит, два. Хотя она совсем уж ни в чём не виновата ни сном ни духом. Даже по закону. Оно, если честно, так и Вадик не виноват. Во всяком случае, в том, в чём его обвиняют. Не зря же пять лет ничего путного ему предъявить не могут. Уже столько следователей сменилось, столько прокуроров. А как адвокат в суде тронет то, что они своими ментовскими мозгами сваяли, так всё сразу и разваливается на составляющие мелкие части. Или расползается по швам. А выпустить Вадика уже нельзя, невозможно. Что ж, зря столько лет его в тюрьме держали, изолируя от общества в интересах следствия? И это в свободной демократической стране, идущей семимильными шагами назло всему человечеству. Нет, так не бывает. Так все в дураках оказываются. И репутация страны со всеми её внутренними органами непоправимо страдает в глазах мировой общественности, на которую стране плевать, но всё-таки — и следователи по особо важным делам, и государственные обвинители, и судья высокого районного суда Галюнина. Все страдают и все в полных дураках. А все в дураках быть не могут. Не имеют права. Тем более после успешной переаттестации.
Конечно, с кошкой у него хлопот прибавилось. Но это и хорошо. Есть чем себя занять, есть о ком заботу проявить. И человеком себя почувствовать лишний повод. Несмотря на античеловеческие условия жизни. Кошке же эти условия вполне годятся. Она и не к таким условиям может приспособиться. Спит себе у него на подушке. Свернувшись. Ест, что есть. Даже хлеба может пожевать. А главное, трётся лбом о подбородок, тычется мокрым носом и урчит в ухо.
По правилам содержания под стражей никакую кошку в камеру нельзя, не положено — это ясно. Но если у родственников или друзей есть деньги, то можно и не такое. А кошка и смартфон, и передачки, и душ каждый день — это всё мелочи и пустяки. Плати — и пользуйся благами двадцать первого века. Мойся с ног до головы на здоровье, ходи в интернет и чеши за ушами свою кошку хоть сутки напролёт. Кстати, в последнее время у него и компания подобралась приличная. В смысле, сокамерник Жора. С ним даже поговорить можно на разные темы. Адвокат всё-таки, защитник. И эрудит. В разумных пределах. Правда, поначалу этого Жору прикручивали ему в качестве назначенного адвоката. Чтобы он его топил, а подельников выгораживал. И у него это, кстати, неплохо получилось — подельники на свободе давно гуляют. Адвокатом-то Жора был хорошим. Своё дело знал. Ну, а потом он воевать уехал. В Ростовскую область. То ли из патриотизма, то ли сдуру, то ли от долгов каких-то прячась (на этот счёт есть разные мнения) — и там, на фронте, пристрелил, значит, эфэсбэшника, который какую-то контрабанду с украинской стороны контролировал. Жора и не знал, кто он, и убивать его не собирался. Там и без эфэсбшника было кого убивать на радость людям. Но если бы он этого эфэсбэшника не пристрелил, эфэсбэшник пристрелил бы его. Потому что, а ля гер, ком, а ля гер, как говорится.
А теперь, видно, совесть у этого Жоры проснулась, и он устроил, чтоб Вадик сидел с ним в VIP-камере. У него же там полное СИЗО друзей-товарищей. И они сидели втроём, как белые люди. Вадик, Жора-адвокат и кошка Люся. В общем, сидеть можно. Если б ещё знать — сколько. А то ведь опять прокурор какой-то новый. Нашли пацана, вчера юрфак окончившего, и воткнули в дело. Под занавес. И он, любуясь собой, попросил у суда пожизненного. Ему адвокат Вадика в личной беседе говорит:
— Какое пожизненное? Ты ж знаешь, что он не виноват.
Прокурор говорит:
— Догадываюсь.
— Ну? — адвокат говорит.
А прокурор:
— Так надо. — И пальчиком указательным в небо тычет. Подонок.
То есть ФСБ, наверно, уже просто потребовало — мол, делайте, что хотите, а преступник должен понести заслуженное наказание, хоть он его и не заслужил. Чтоб другим неповадно было. Это ж вам террор, а не хрен собачий. Небось, опасались, что если начнёт кто-нибудь по-настоящему рыть, так ров в ФСБ и приведёт. Больше-то некуда. Никто, кроме этой гениальной конторы, не додумался бы в урны на остановках взрывпакетов накидать. Зачем — сейчас уже никто и не помнит. То ли уличные протесты запретить хотели под предлогом грозящей опасности, то ли гайки закрутить решили. Да сейчас это и неважно. Важно, что за взрывы эти идиотские должен был кто-то ответить. Посадить первых попавшихся под руку везунков, посадили без проблем. Но требовались же преступники. Чтоб суд, приговор, чтоб всё как в кино. И чтоб доказательства налицо. Неопровержимые. Хоть из говна слепи эти доказательства. Вот следствие их из него и лепило. Без особого, правда, успеха.
А Вадик всё это время в тюрьме жизнь свою единственную проживал, в следственном изоляторе изо дня в день. Шесть лет. Выньте из своей жизни любые шесть лет подряд, и вы поймёте, как это много. И он жил их сначала в общей камере, потом один, потом, слава богу, с кошкой. А потом и с адвокатом. И ему эту жизнь продляли в судебном порядке. То на два месяца, то на четыре. Судья говорила, что закон им в крайнем случае это позволяет. Он всё им позволял, закон их. А ещё говорила судья, что она сама и есть тут закон. Который суров. И жизнь это подтверждала. Жора-адвокат его дёргал, надо, говорил, что-то делать, а не то эта блядь продержит тебя за решёткой до пенсии своей блядской.
— Что делать? — не понимал Вадик.
— Идти на сделку со следствием.
— Так они предлагают сознаться, что я два теракта устроил. И за это мне десять лет дадут.
— Вот видишь. Всего десять лет.
— Ага. Я сознаюсь, а они наебут. И пожизненное мне. Да?
— Не факт. Ты ж апелляцию подашь. А в высшей инстанции пожизненное не утвердят без доказательств. Коих у них нет.
— Да у них все везде свои. Во всех инстанциях. Они сразу предупредили, подам апелляцию — хуже будет.
— Хуже? А куда ж хуже?
— Тебя что, опять мне подсунули? — ругался Вадик. — И что на этот раз ты должен для меня сделать?
Жора-адвокат на него обижался и до утра не разговаривал. У него и у самого дела шли не слишком. Тем более после того, как его в своей речи по телеку упомянул сам генпрокурор. Лично. «Интересно, какая сволота в речь ему меня вставила», — думал Жора. И перебирал в уме всю возможную сволоту. Но её набиралось слишком много. Сволоты почему-то всегда бывает слишком много, а не слишком мало, поэтому вычислить, кто именно подложил ему эту свинью, не представлялось возможным. И что особенно противно, никакой сделки с собой следствие Жоре не предлагало. Следствию на его счёт всё было понятно. И улик у него было дохренища.
А утром он говорил Вадику:
— Делай, конечно, как знаешь, но никакого пожизненного они тебе не дадут. Не дадут они тебе пожизненного — вот те крест. Потому что любой суд — хоть городской, хоть верховный — сразу поймёт, что дело сшито. И если, не дай бог, захочет разобраться, кем и зачем… Им всем тут места мало будет. От этой суки Галюниной и до остальной их шоблы.
— Жаль я не доживу, — говорил Вадик, — до верховного суда. Они ж, как ты знаешь, не спешат. Им спешить некуда.
…А тут, значит, вернулся Жора-адвокат от следователя. Вздрюченный, весь в поту и злой, как собака. Вернулся и сразу:
— Они не тебе пожизненное дадут, они мне его дадут. Мне! — и как пнёт кошку Люсю.
Она о его ногу потереться хотела. Этой самой ногой он её и пнул. В живот под рёбра. Люся отлетела и молча о стенку ударилась. Всем телом. А Вадик вздрогнул, это увидев, встал с койки — тоже молча — и взял адвоката за горло. Холодными пальцами. И стал бить его головой о стенку. О которую Люся ударилась. Бьёт и приговаривает:
— Теперь дадут мне пожизненное. Дадут. Теперь обязательно мне его дадут, твари.
2018−2020
Зяма
Двенадцатого утром всем хотелось одного. Выпить. И хотелось мучительно. Потому что до этого пили, как минимум, трое суток с передышками на вынужденный сон. А к утру двенадцатого мая выпили всё.
— Если мы чего-нибудь не добудем, — говорили бойцы, — мы погибнем, застрелившись на месте.
А другие бойцы говорили:
— Разве можно после победы погибать?
— Так всё равно ж погибать, — возражали первые. — Какая разница, от похмелья или от пули. От пули не так мучительно.
И Зяма пошёл навстречу боевым товарищам. Хотя сам, будучи мало пьющим, мук не испытывал. Он остановил какого-то немца и поговорил с ним. Что характерно, на чистом немецком языке. У Васи Ганина прямо рука за пистолетом потянулась. Хорошо, что он пистолет в боях потерял. А то бы… Он, Вася, сильно этого Зяму недолюбливал и вместе с ним всё его племя. И не зря, выходит, недолюбливал.
— Мы, значит, с ними воевали, — сказал Вася, — кровь свою лили, а этот, значит, им свой?
— А Зяма что, с ними не воевал? — возразил кто-то Васе, но Вася возражений не принял.
Потом Зяма немца отпустил, сказал «пошли» и отвёл победителей в уцелевший погребок. И они взяли его приступом, изъяв именем товарища Сталина много разного шнапсу. И лишний раз убедились, что как его немцы пьют, непонятно.
— На глицерине они его, что ли, гонят, — говорил Вася. — Скоты! — Но пил, конечно, как миленький. Грозясь наладить на территории поверженного рейха производство настоящей русской водки путём самогоноварения.
А утром в расположение батареи явился какой-то лейтенант незнакомый. И отвёл Зяму прямым сообщением в тюрьму.
Назавтра вызвали его на допрос. В кабинете сидели майор и человек в штатском. Штатский сказал:
— Гутн абенд.
— Гутн абенд, — ответил Зяма.
Немец поговорил с ним минут пять. Так, ни о чём. После чего вступил в их беседу майор:
— Ну, хер профессор?
— Он из Саксонии, — немец перешёл на русский. — Скорее всего, из Гёрлица. Осмелюсь утверждать, что научиться так говорить, живя безвыездно в России, невозможно. Видимо, он перебежчик.
— Какой перебежчик? — сказал Зяма. — Я на фронте с первого дня, в армии с сорокового года.
— Это мы узнаем, — сказал майор. — С какого ты года и в какой армии. Мы всё обязательно узнаем.
«Эх, Марта, Марта, — думал Зяма после допроса. — Вот тебе и Гёте, вот тебе и Гайне с Шиллером».
Но сидел Зяма недолго, меньше месяца. И сидел шикарно. В просторной камере, с удобствами. По вечерам, когда начальства в тюрьме не было, играл с охранниками в очко на пальцах и чаще всего выигрывал. Тут надо отдать должное охранникам — выигранное Зяма всегда от них получал. Еду, шоколад, курево, вещи. К примеру, он выиграл ремень из мягкой пупырчатой кожи. И ещё очень смешные сапоги. На застёжках. Такие надеть — батарея со смеху померла бы. Но Зяма сапоги всё равно взял.
Конечно, охрана, проигрывая вещи, надеялась получить их обратно. Естественным, так сказать, путём. На тот свет сапоги не заберёшь. Поэтому он охотнее играл на шоколад и сигареты.
А недели через две охрана очень за себя порадовалась — что не наглела и не отнимала у Зямы выигранного. Так как его не только выпустили, но и назначили их начальником. А точнее, комендантом всей этой тюрьмы. Невзирая на воинское звание «старший сержант».
Очередной допрос после долгого перерыва вели тот же майор и тот же штатский немец:
— Ну, поговори с ним ещё, хер профессор, чтоб лишний раз убедиться, — сказал майор.
Немец снова стал говорить с Зямой. Потом попросил произнести несколько бессмысленных фраз. Зяма произнёс.
— Он из Саксонии, — сказал немец.
— Ну, а если он с рождения немкой воспитывался? Может он так говорить?
Немец подумал.
— Я с таким в своей практике не сталкивался. Но теоретически это возможно. Да, возможно.
— То-то же, — сказал майор. — А то заладил — из Саксонии, из Саксонии. — И ни к селу ни к городу добавил: — У меня в Саксонии девка одна была — залп из всех орудий, а не девка. Хотя и уродина.
После чего немец был отпущен. А майор спросил:
— На каком основании скрывал знание немецкого языка?
— Я не скрывал, — сказал Зяма.
— А почему никто не знал, что ты так владеешь?
— Потому что я по-немецки не говорил. Не с кем было.
— А тут, значит, появилось — с кем? — Он откинулся на спинку стула: — Я месяц себе переводчика путного искал, с ног сбился. А ты, значит, всё это время где-то поблизости ошивался.
— Я не ошивался, — сказал Зяма. — Я в артиллерии воевал. На конной тяге.
Майор его возражения вдумчиво игнорировал.
— Значит, говоришь, немка тебя воспитывала? Бонна? — он хохотнул.
— Какая там бонна, — сказал Зяма. — Соседка по коммуналке.
— Соседка… А что мужа её, беляка, ещё в двадцатом наши шлёпнули, знаешь?
Зяма знал.
— И что, она действительно из Саксонии?
— Да, — сказал Зяма. — Из Гёрлица.
На должность Зяма заступил сразу же, как вышел от майора. И демобилизовался только в ноябре 1946-го. Смершевцы и прочие, как теперь говорят, спецслужбы ловили скрывающихся от возмездия нацистов, а Зяма отвечал за их сохранность, допрашивал и даже отсеивал лишних. Потому что кого только смершевцы не ловили. Правда, у него в тюрьме одна мелочь содержалась. Но оно, может, и к лучшему. Ответственности меньше.
Да, когда Зяма вышел из наводчиков орудия в коменданты, к нему пришёл Вася Ганин. Зяма ему:
— Чем могу служить?
А Вася:
— Не надо мне ничем служить. Ты лучше не думай на меня. Не я это стукнул.
— Да я и не думаю, — сказал Зяма.
А Вася сказал:
— Думаешь. Я знаю.
И ушёл.
Ну, и последнее. Пока Зяма с комфортом сидел, в Москве к его родителям пришли. И увели соседку. Немку Марту, которая была ему — так сложилось — фактически второй матерью. Она чудом пережила в столице всю войну, как будто НКВД и другие органы ничего о ней не знали. Или забыли. И, если бы не Зяма, может, и жила бы себе, как жила. А так — больше её никто никогда не видел.
2014−2016
Путь
Сидел Серый практически лёжа. Особенно последние годы. Когда был в бараке паханом. А что лежать ему приходилось на нарах, так это издержки времени и места. Нары у него, кстати, покрывал ортопедический матрас за триста евро. И простыню шныри меняли на чистую раз в неделю. Шнырей в своём бараке Серый называл камердинерами. И если ему что-нибудь от них было нужно, он просто орал из положения лёжа. Продвинутые зеки окрестили этот ор гласом вопиющего в постели. В общем, жизнь Серому портила всего одна вещь. Как он удачно шутил, 17 марта 2001-го года его должны были выписать. Откидывался он, значит. Естественно, без шнырей — у них свои сроки, — а главное без матраса. Притом, что у Серого была грыжа диска. И без матраса он никак не мог бы жить. Получится ли добыть такой матрас на воле и будут ли для этого у него средства, Серый не знал. Сомневался он, что будут. Воля не зона, там свои законы и свои паханы: молодежь, для которой Серый — хрен с бугра и больше никто. Причём бывший хрен. Это в кино отсидевших гангстеров встречает у ворот зоны шестисотый мерседес, набитый друзьями и девками, со всеми вытекающими последствиями. А в жизни всё не совсем так бывает. Да и какой из Серого гангстер. Вор он в своё время был приличный. Пока из безвыходного положения не завалил двоих. А потом, отсидев, ещё одного. Спьяну и сдуру. Так что встречать его по большому счёту на воле было некому. И матрас, даже если это удастся, взять с собой некуда.
На жён — коих было у него две, причём одновременно — Серый никаких надежд возложить не мог. Первая на третьем году его второй ходки сказала, мол, всё, пожили и будет. Тебя сколько ни жди, всё равно не дождёшься. А вторая и того хуже учудила. Померла. Кто говорил, от несчастной любви, кто — от передоза. Точнее никто не знал. Да точнее и не нужно. Потому что когда это всё было и какая разница — от чего.
Детьми обзавестись Серый тоже не удосужился. По молодости гулял себе и ни о чём не думал. А потом — тридцать семь лет на зоне. В общей сложности. Больше половины на строгом режиме. Некогда было ему детей делать и воспитывать.
Нет, на воле, конечно, ему тоже жить доводилось. И после первого срока, и после второго, и после третьего. Лет восемь-девять, пожалуй, вольных у него в биографии наберётся. А может, и больше. Но как-то не сложилось у Серого с детьми. Не состоялось. А теперь уж и не состоится. По ряду понятных причин. Ортопедический матрас, он для другого предназначен. И доктор их лагерный говорил, что без матраса Серому не жить. А доктор зря говорить не станет. Доктор у них голова. Он всё лагерное начальство от болезней лечит. С семьями, друзьями и знакомыми. Благо, срок у него серьёзный — на их век хватит.
Доктор этот, к слову, Серого и надоумил.
— С вашей фамилией, — сказал, — Сергей Иосифович, я бы лично уехал. Потому что жить, может, и нужно на родине, но доживать лучше в европах. Там и соцзащита, и медицина, и уход. Там даже сидеть, говорят, гораздо приятнее, чем здесь. И тот же матрас. Ваш, например, немецкого производства. Отличная вещь.
— В смысле? — не понял Серый. — Где сидеть? Куда уехал?
— На Запад, — объяснил доктор. — Проще всего, в Германию.
— И что ж я там буду делать? — спросил Серый.
— Что все в вашем возрасте делают, — сказал доктор. — Заодно мир посмотрите.
«Дался ему этот возраст, — думал Серый. — Семьдесят один год всего. Да если б не грыжа диска…»
Но идея посмотреть мир Серому понравилась и запала в душу. В сущности, что он в жизни видел? Кроме зоны. Ничего он, кроме неё, не видел. Тоже, конечно, немало — немало, да не всё. Далеко не всё.
А фамилия у Серого была Шлафман. Во всяком случае, по отцу. Которого Серый, наверно, встречал в раннем детстве, но забыл с тех пор совершенно. А всех Шлафманов, как выяснилось, Германия принимала в те годы с распростёртыми объятиями, и они могли жить в ней на всём готовом. Зачем они ей сдались, Шлафманы, понять невозможно, но принимала. Это факт известный и сомнению не подлежит. Правда, справку о судимости Германия зачем-то требовала. Об отсутствии или о наличии — неважно. Лишь бы справка. И Серый выстоял две очереди в какую-то ментовскую контору, как последний лох. Сначала, чтобы подать запрос, а через месяц, чтобы упомянутую справку на руки получить.
Когда же Серому прислали приглашение, он подумал: «Наверно, немцы её не заметили, справку мою. Да точно не заметили. Иначе б…». Причём приглашение пришло Серому всего через полгода. А люди и по пять лет прекрасно ждали.
И все это время, до самого отъезда, кантовался Серый у сестры. ПолУродной. В смысле, родной, но лишь наполовину — по матери. Отец у сестры был другой, посторонний. Его Серый тоже не знал.
От того, что Серый у неё поселился, сестра в восторг не пришла. Но выгнать не посмела. Не потому, что брат и какой-никакой родственник, а потому что страшно было его выгонять. Рецидивист же. Хотя и старый совсем. Особенно страшно было почему-то видеть его руки. С татуированными на пальцах перстнями. Да и весь он был страшноватый какой-то — с головы до ног. Хорошо ещё, что денег давал — на питание и прочие расходы. Всё же преступный мир не бросил его на произвол судьбы по старости и немощи. Платил ему что-то за выслугу лет. Хотел Серый и пенсию себе оформить. От государства. Но не успел. Уехал. А так бы он и пенсию сестре отдавал. Не жалко.
В Германии всё сначала пошло у Серого хорошо. Его поселили напротив церкви, в комфортабельном публичном доме, перестроенном под общежитие. В отдельной комнате с душем и удобствами. И вокруг общежития красота такая, как в сказке. О людях, правда, Серый ничего узнать не успел. Близко познакомился он только с социальным работником по фамилии Горвиц. Так как этот Горвиц его по прибытии курировал. Он его и в банк водил, и на рентген, и к врачу. Чего, может, делать и не стоило. Поскольку врач нашёл у Серого множество заболеваний, плохо совместимых с нормальной жизнью. Грыжу диска, гипертонию, сердечнососудистую недостаточность. И даже гепатит хронический с какой-то ещё буквой на конце обнаружил, а также и туберкулёз. Что хорошо, форма у его туберкулёза была закрытая. Для других не опасная. Но мир посмотреть со всеми этими находками Серому, похоже, не светило. Не до миру ему с ними стало, совсем не до миру. Тем более, узнав о своих неизлечимых недугах, он как-то сник. И, как по команде, начал дряхлеть.
Его клали в немецкие больницы и в них лечили. Он лежал там, как перст, не понимая ни слова. Спасибо, иногда приходил Горвиц и всё ему переводил. И им тоже переводил. Если что.
Полечив, Серого выписывали, и он уезжал на такси в свой публичный дом. Поскольку деньги за такси государство возвращало. Горвиц что-то заполнял, и они приходили на счёт. А через время Серому опять становилось плохо, и его опять клали в какую-нибудь больницу. Где ему было хорошо: чисто, сытно и уютно. Все улыбались, хоть больные, хоть здоровые. Даже уборщицы улыбались, чего вообще не бывает, даже врачи…
Жаль, несмотря на их улыбки и высокий профессионализм, спасти Серого так и не удалось. Со всеми его старыми болячками немецкая медицина совладала, а новая оказалась совсем уже ни в какие ворота. От неё Серый и умер. Быстро умер. Не успев, можно сказать, оглянуться. И мир посмотреть — не успев.
На кладбище Горвиц привёл десять старых евреев (включая себя), чтобы создать миньян и чтобы можно было за Серого как положено помолиться. Евреи, хотя при жизни Серого в глаза не видели, пришли. И раввин местной синагоги родом из Марокко прочёл традиционный кадиш. Правда, по-немецки. Так что Серый бы его не понял.
Работники погребального института «Амброзия» на специальной тележке выкатили гроб из зала для прощаний и повезли по дорожке к могиле. Десять евреев и раввин родом из Марокко потянулись следом. На месте Горвиц вышел из рядов и торжественно произнёс: «Сергей Иосифович Шлафман прошёл славный жизненный путь от дня рождения до дня смерти»…
Что ещё можно сказать о Сером, Горвиц не знал.
2016
Согласно мечте
Бомжами, как известно, не рождаются. Бомжами становятся. Хотя и не все.
Клешня стал бомжом недавно. Ну, года, может быть, три назад. Правда, до этого он ещё и отсидел своё. Тоже года три, не больше. И даже не своё он отсидел. А чужое. Его родная, можно сказать, жена посадила. По экономической статье за воровство, в смысле, хищение. И пока он сидел, с ним развелась, а их совместно нажитую жилплощадь за взятку на себя переоформила. И продала чужим посторонним людям. А себе другую купила. В престижном коттеджном посёлке. Но это позже. Сначала-то она сделала Клешню своим заместителем. Заставила уйти с работы и назначила заместителем директора фирмы. Заместителем себя, то есть. Сказала: «Мне нужен свой от мозгов до костей человек. А то уезжая в командировку или по делам, фирму оставить не на кого».
Жена у Клешни была бизнесменшей. Пшеницей торговала и другими культурами. А при надобности вообще всем подряд торговала.
Когда случилась перестройка, кооперативы разные и прочая необузданная свобода действий, она сразу с головой ушла в бизнес. Прямо со школьной скамьи. Конечно, тогда у неё кардинально другой бизнес был. Но не в этом суть. Суть в том, что лет шесть как раз назад в её бизнесе не сошлись концы с концами, сильно не сошлись. Тогда она Клешню в заместители себе и взяла. А там, дала пару нужных бумажек подписать, и всё. И две проблемы, как гора с плеч, сами собой решились. И от тюрьмы она увернулась, хотя была от неё в непосредственной близости, и с Федей любовь пошла у них публично и напропалую. Никто им в этом теперь не препятствовал. Ни Клешня, ни жена Федина. Ей она просто денег дала. Сказала «на и утихни». Та увидела кучу бумажек зелёных и дара речи лишилась. Чуть ли не навсегда. А когда Клешня из заключения вышел, бывшая жена честно хотела купить ему какое-нибудь жильё однокомнатное. Для очистки совести и кармы. Но тогда как назло со свободными деньгами была полная катастрофа. И жопа. Так совпало, что все они в деле крутились. До копейки. И она ничего ему не купила. Вопреки искреннему желанию. Поэтому пришлось Клешне забомжевать. Куда ж ему было деваться. Но жена обещала и клялась, что это безвыходное положение дел — временно. Что как только свободные деньги появятся в наличии на счету, так она сразу и это, всё сделает. Клешня и друзьям своим говорил уличным, мол, я, говорил, тут среди вас человек временный. Жена скоро квартиру купит. Она ж мне жизнью и свободой обязана. И деловой репутацией. Но сейчас у неё с деньгами большие проблемы.
Друзья над ним смеялись и объясняли, что с деньгами всегда и у всех проблемы. И чем больше у людей денег, тем больше проблемы. Но он им не верил. Он верил в хорошее. И в свою бывшую жену. Невзирая на факты.
А ещё была у Клешни маленькая мечта. Мечтал он спиздить или лучше найти айфон. Ну, теряют же люди айфоны. А раз теряют, значит, их кто-то находит. Почему не Клешня?
Бывало, сидят они с Клоуном и Батоном в тепле и уюте подвала, винишко потягивают, а он им своей мечтой баки забивает. Они:
— Да на хрен тебе айфон? Кому ты звонить хочешь?
— Никому не хочу. Мне для другого.
— Порнуху смотреть?
— А хоть бы и порнуху.
И как это в жизни редко, но бывает, он-таки вожделенный айфон нашёл. Всё согласно мечте. На дороге.
Потом, конечно, оказалось, что айфон этот менту принадлежит. И не простому менту, а целому завгоротдела полиции. Но Клешня же этого не знал. Он увидел — айфон в пыли валяется, подобрал его и унёс. И вечером, когда сошлись все и поели немного, и выпили, включил найденный айфон, на ящик примостил и говорит:
— Смотрите.
Друзья к экрану лица приблизили. А там, в айфоне этом, бокс идёт иностранный. И на ринге один боксёр такой, весь из мышц, и смуглый — может даже, испанец, — а другой белый. Тоже ничего так парень. И молотит он этого смуглого испанца, как из пушки. Хотя и тот промахивается редко. Клоун с Батоном за нашего тут же стали болеть, за беленького. Что понятно. Но он всё равно не победил. Так как смуглый ему бровь рассёк головой. И кровь до конца боя лилась из беленького, как из ведра, от любого прикосновения. И глаз его заплыл полностью. В результате судьи победу присудили смуглому. А что головой он ударил — будто и не заметили. Конечно, они расстроились. И Батон, и Клоун, и даже Клешня. Потому что он тоже сто лет уже всё это не смотрел. И потому, что несправедливо.
— Ну, и зачем ты нам это показал? — Батон спрашивает.
— Так это ж я, — Клешня говорит. — Мадрид, 2002-й год.
— Да ладно, — Батон не верит. — Ты трынди, но в меру. Может, у тебя и шрам с тех пор сохранился? Над глазом.
— Дак вот же, — Клешня говорит.
И сначала Батон, а потом и Клоун увидели его шрам через всю лысую бровь. Который они и раньше прекрасно видели, но мало ли у бомжей шрамов. Начали к Клешне приглядываться — вроде и похож чем-то на беленького. Только рожа поношенная. От нерегулярного образа жизни. Клешня говорит:
— Да я это, я. На ютюбе и другие мои бои есть. Надо только зарядное устройство где-нибудь спиздить.
Но тут нежданно-негаданно менты к ним в подвал пожаловали. Собственными персонами. И сразу айфон обнаружили. На ящике.
— Вы, — говорят, — хоть бы джипиэс выключили. Дебилы.
— Чего? — не понял Клешня.
— Ничего, — менты говорят. — Твой гаджет? — И увели Клешню в не известном никому направлении. И в подвал он больше не вернулся. Ни сегодня, ни завтра. И вообще никогда.
Наверно, жена слово своё таки сдержала.
2020
И Нефертити
Раньше мать варила дурь прямо в квартире. Хорошую дурь. Проверенную. Всегда очередь стояла на лестнице. Дочь, две её подруги и несколько родственников подсели на это гиблое дело. По-родственному и по знакомству. Поэтому с дурью она завязала раз и навсегда. Жалко стало дочь, подруг и родственников. Особенно когда они умерли. Сказала: «Всё. Хватит». — И завела в той же квартире гусей. На втором этаже пятиэтажного дома без лифта. Жить-то как-то надо. Решила — буду их выращивать и продавать соседям в виде мяса.
Гуси росли. Гоготали. Изо всех сил гадили на паркет. Скользили.
Муж тоже скользил. С гусями. Но не сидел среди них сложа руки. Тем более они у него золотые. Муж делал руками чеканки. Которые для солидности называл эстампами. Делал и сдавал в художественный салон красоты по дешёвке. Темы разные. Волк из «Ну, погоди», Нефертити, Сталин опять же и для интеллигентов Хемингуэй в свитере. Деньги, естественно, пропивал. Иногда с женой, иногда без.
Однажды выпили с ней за проданного Сталина и пошли к людям в общественные места. Добавлять. А дверь запереть забыли. Гусей, конечно, тут же спиздили. Эстампы тоже. Да всё спиздили. Подчистую. Один гусиный помёт в изобилии остался. И Нефертити. Но она ещё не закончена.
2022
Под охраной
Ежедневно, в пять часов, из школьной проходной выходит полицейский. Вынимает «Макарова» и осматривает прилегающую территорию. Потом такой же полицейский выходит из ворот их дома. Тот уже с «Калашниковым». Он со своей стороны озирает местность и говорит, потянувшись губами к рации, «готов». Первый отвечает ему тем же. После чего из гимназии выпускают Елену Юрьевну с детьми.
Она идёт, держа сыновей за руки, от одного вооружённого полицейского к другому. Как по канату. А иногда — в каких именно случаях, она не знает — третий полицейский идёт с нею рядом. Все они дежурно пользуют одну и ту же хохму: «Шаг влево, шаг вправо считается побег, прыжок на месте — провокация».
А Елена Юрьевна этот сомнительный юмор дежурно поддерживает:
— Надеюсь, — говорит, — конвой стреляет без предупреждения?
От гимназии до дома метров шестьдесят. Ну, может, семьдесят. Зато проходят они это расстояние дважды в день. Утром туда, вечером обратно. Вечером обратно, утром туда.
Вначале Лёля доставала Лесницкого:
— Нет, ну чего ты боишься?
А он отмахивался:
— Вот спиздят тебя враги, продадут в гарем саудовского принца, тогда узнаешь.
— Фу, — говорила Лёля. — Что за выражения!
— Ну похитят. Похитят, — поправлялся Лесницкий, — забыл, что ты у нас педагог.
Лёля говорила:
— Да кому я нужна? Старая вешалка.
Тут она, конечно, кокетничала. Да и понимала, что платить Лесницкий будет хоть за старую вешалку, хоть за новую. Если уж доберутся до неё или, не дай бог, до детей.
— И откуда у тебя враги? Ты же муху обидеть не в состоянии.
— Муху — нет, — соглашался Лесницкий. — Но у всех богатых людей есть враги. У меня в том числе. Поэтому, если не я их обижу, они обидят меня.
Лёля думала: «Лучше б ты был небогат», — но вслух этого не говорила.
Потому что ей нравилось быть богатой. В «Ауди» кататься — это не на мостовом кране корячиться. Она вот, столько лет прошло, а кран свой забыть не может. Пропади он пропадом. Хотя всё у неё давно в полном порядке. Муж, дети, слуги. Денег — правнукам хватит. Отдых на любых Канарах и в каких хочешь Альпах. В общем, не жизнь, а счастье. Единственное, что под охраной жить ей малость поднадоело. Она уже не раз спрашивала у Лесницкого в лоб:
— А охранники твои случайно нас не пристрелят? Если им хорошо заплатят?
— Больше чем я? — отвечал Лесницкий. — Не заплатят.
Лёля говорила:
— Да устала я жить, как декабрист. Под надзором полиции. Простого любовника завести невозможно.
А Лесницкий говорил:
— Не капризничай. — И говорил: — Я тебе покажу любовника, я к тебе персонального майора приставлю. А то и двоих.
Шутил он так. Хотя чёрт его знает. Может, и не шутил.
Гимназию Лесницкий придумал специально для Лёли. Снёс несколько домов на их улице, купил владельцам престижное жильё, переселил их туда за свой счёт — и построил эту самую гимназию.
Недовольные, конечно, среди снесённых были. И в суд пытались подавать, и убить грозились, и всё, что угодно. Но Лесницкий кого убедил, кого припугнул и всем не скупясь заплатил. Что случалось с ним редко. Может даже, впервые в жизни случилось.
Зато у жены его теперь есть собственная гимназия. Учителя — лучшие в городе, с зарплатой втрое против обычной. Лёля, естественно, директор. Чтобы было ей чем себя занять в будние дни недели и чтобы в дела Лесницкого она не совалась. Своими женскими мозгами и обострёнными чувствами.
Назвала гимназию Лёля красиво. И стильно. Классическая. Наверное, кто-то ей подсказал из гнилых интеллигентов прежних времён. А может, и сама она случайно додумалась. Она же умная, Лёля. До всего может додуматься. Особенно случайно.
В общем, поп все углы в здании обрызгал, пообедал хорошо, плотно. Мэр на открытии речь сказал «за образование». И в городских СМИ, с потрохами тому же Лесницкому принадлежавших, пошла реклама. Что аттестат новой гимназии признаётся всеми университетами Европы и чуть ли не Сорбонной.
Признаётся или нет, время покажет. Но учителя там действительно первосортные. Математику в матклассе читает профессор с физмата. Языкам учат — английскому, испанскому, французскому и латыни. Латынь опять же доцент мединститута преподаёт троим желающим. А инглиш ведёт чистокровная англичанка, носитель великого и могучего языка Байрона, Шекспира и иже с ними. Друг Лесницкого — ещё по комсомолу — её из Англии себе привёз на роль жены. Ну, а Лесницкий договорился с ним насчёт преподавания.
Так что не зря все состоятельные люди города детей своих сюда потихоньку переводить стали. Тем более стоило это для них чисто символически — триста-пятьсот баксов в месяц. В зависимости от возраста ребёнка. А охраняется гимназия не хуже тюрьмы. И двор, и периметр, и проходная.
Вообще-то, Лёля педагогического образования или опыта в воспитании подрастающего поколения не имела. В юности она работала крановщицей мостового крана в горячем цехе. И в гандбол играла. За «Трудовые резервы». И как-то очень быстро она поняла, что крановщицей жизнь прожить — не поле перейти. Быстро при помощи гандбола поступила в институт, познакомилась с Лесницким и быстро вышла за него замуж. Он там спортом и культурным досугом молодёжи руководил. От имени и по поручению комсомольской организации. Девка-то Лёля была — огонь. Лесницкий говорил: «Вечный огонь». Ноги от ушей, стройная, как ёлка, плюс красавица. Одним словом, топ-модель с обложки. И не очень часто открывать рот при людях у неё тоже ума хватало. Поэтому появиться с ней в хорошей компании или там в элитном обществе себе подобных было сплошным удовольствием.
Лесницкий это оценил. И ценил даже тогда, когда до неприличия разбогател. Все его компаньоны и подельники давно забыли, как жён их молодости зовут, а он нет. Так и продолжал состоять в браке со своей видавшей виды Лёлькой, превратившейся в Елену Юрьевну. Нет, мимолётные бабы у него на протяжении лет случались, как же без баб. Но это не считается.
Выглядела Елена Юрьевна в свои под сорок не то что другие. Поскольку следила за собой днём и ночью. Условия для слежки этой Лесницкий ей обеспечил. Что да, то да.
Ездила она в «Ауди-8» с шофёром тире охранником, одевалась практически от кутюр. Стрижка, визаж, массаж, маникюр, спа — всё по расписанию. Её даже родные дети не слишком собой обременяли, имея каждый по воспитательнице или, другими словами, бонне. И Петька, и Феликс. Который всего десять лет назад у них родился. Хлопот с ними всё равно хватало — дети есть дети. То Петька воспитательницу свою трахнул. Когда ему и четырнадцати не было. То Феликс нахулиганил. Не без этого. Зато и радость от них, от детей. Бывает, Лесницкий приедет ночью — злой, как собака. Рюмку выпьет, зайдёт в спальню к Феликсу, пальцем его по щеке погладит. И вроде опять на человека похож.
Железной обязанностью Елены Юрьевны было только в гимназию их привести и домой вернуть в целости и сохранности. А в остальное время суток они пребывали под опекой учителей, воспитателей и профессионалов из горотдела внутренних дел. Дорогу в школу и из школы контролировали менты. Школьный двор — они же. И у классов, если надо, дежурили. Пока дети сидели за партами. В общем, как они упустили Феликса, непонятно. Но упустили. Как сквозь землю он провалился. Средь бела дня после уроков.
«І вора не було, і батька вкрали», — сказал капитан Гулько.
Вора действительно не было. Вообще посторонних никого не было. А ребёнок исчез.
Доложили Елене Юрьевне. Она побелела вся, с головы до ног, и кинулась звонить Лесницкому. Тот сначала не отвечал. Потом ответил «занят». Но Елена Юрьевна успела дико заорать. И трубку он не бросил. Спросил:
— Что такое?
— Феликс пропал, — сказала Елена Юрьевна.
— С говном смешаю, — сказал Лесницкий. — Всех ментов гэптом. И тебя вместе с ними.
Первым делом, конечно, он позвонил Зауру:
— Заур Алимыч, Лесницкий беспокоит.
— Говори, — разрешил Заур.
— Заур Алимыч, сын у меня пропал. С кем разговаривать?
— Не со мной, — сказал Заур. — И сказал: — Если что, обращайся. Найдём. И сына, и того, кто…
«Ну, лишь бы не он», — вздохнул Лесницкий и позвонил генералу Канарину.
Через пять минут в городе ввели план «Перехват». А через десять Заур перезвонил и сказал, что зря Лесницкий ментов привлёк. Какой тут может быть толк от ментов. Потом сказал:
— У матери он твоей. На трамвае приехал. Полчаса назад.
В общем, всё кончилось хорошо. Правда, Лесницкий лишний раз убедился, что Зауру каждый его шаг известен. И самое хреновое — не только его шаг.
Ну, а Феликс так и не признался, кто его из-под стражи выпустил. Молчал, как партизан перед смертью. Сказал только:
— Ненавижу вас. — И ещё раз сказал: — Ненавижу.
2021
ЭМИГРАНТСКИЕ РАССКАЗЫ
Ёлка-палка
Сосульки свисают с крыш. Смотреть на них зябко. И страшно. Вдруг упадут. Уж слишком они длинные. И толстые. И острые. Но Мишка всё равно на них смотрит. Задирает голову и смотрит. Пока шапка не соскальзывает с головы в снег, за спину. Тогда он нагибается, поднимает шапку и нахлобучивает её на макушку. И опять задирает голову. И опять всматривается в кончики сосулек. Надеясь заметить, как они увеличиваются, как растут. Заметить, конечно, ничего не удаётся, как не удаётся увидеть движение часовой стрелки. Но он всё равно надеется. И всматривается. Всматривается до тех пор, пока в глазах не становится мутно. «Вот бы она упала», — думает Мишка. И она падает. Самая большая, самая толстая, самая длинная сосулька, растущая от самой крыши, обрывается и падает мимо верхнего балкона вниз. Летит в палисадник. Задевает тую, сбивая с неё снег. И сначала врезается в наст своим остриём, а потом сверху разламывается сама собой на части и дребезги. И разрушается.
— Как в кино, — говорит Мишка. — Ну точно, как в кино.
В каком кино он видел нечто похожее, Мишка не помнит. Может, он и не в кино это видел. А где-нибудь во сне. Потому что сны у Мишки тоже бывают, как кино. Только не цветное. Цветное кино Мишке во сне не крутят. 3D крутят, ужастики крутят часто, а цветное никогда. Почему-то. И спросить, почему, не у кого. У мамы Мишка спрашивал, она сказала «не задавай дурацких вопросов». И у папы он спрашивал, но папа вообще ему не ответил. Может, не слышал. Или не понял, о чём у него спрашивают. Или был занят чем-то своим и думал о своём, а не о Мишкином.
Папа и сейчас занят. Пока Мишка рассматривает сосульки, он очищает от снега машину, скребёт скребком лобовое стекло и прикидывает, сможет ли выехать через снежный намёт без помощи лопаты. Ехать папе никуда не хочется. И лопатой махать не хочется.
— Чего стоишь? — говорит он и даёт Мишке щётку. — Помогай.
Мишка берёт щётку и начинает заново чистить лобовое стекло. Снег падает, а он его сметает. Снег падает, а он сметает.
— Смахни и с боковых, — говорит папа. — И с заднего.
Мишка идёт вокруг машины, скучно помахивая щёткой.
— Поехали уже, я не успеваю, — говорит он.
— Поехали… — говорит папа и вынимает из багажника лопату. — Поедешь тут.
В конце концов выезжают, скользя, на дорогу. Лопата позвякивает в багажнике.
— Резину надо менять, — говорит папа. И включает радио.
Радио играет и поёт. Мишка молчит. Настроение у него испорченное. С самого утра. То есть с завтрака. Мама дала ему поесть, а он сказал: «Не буду я есть». «Почему это ты не будешь»? — сказала мама. «Потому что это гадость», — сказал Мишка. Мама расстроилась и закатила Мишке оплеуху. А Мишка сказал: «Сейчас позвоню в полицию, пусть она приедет и тебя застрелит. Номер я знаю». Мама расстроилась ещё больше. А папа сказал: «Ну хоть бы раз дали спокойно поесть». Встал и вышел из-за стола. И Мишка тоже встал и вышел. А мама сидела ещё какое-то время, а потом они с папой разговаривали. И Мишка слышал только слово «ребёнок», которое повторялось. «Ребёнок должен. Ребёнку необходимо. Ребёнка надо»…
— Я во двор, — сказал Мишка в закрытую дверь кухни, оделся и ушёл. Смотреть на сосульки.
И смотрел, пока не вышел злой папа и не начал откапывать машину, сказав Мишке «сейчас поедем».
— Куда поедем? — спросил Мишка.
— На кудыкину гору, — сказал папа.
Папа в последнее время всегда злой. Потому что его опять не приняли в оркестр. Или в группу. Мишка точно не знает, куда не приняли папу. Но знает, что не приняли. И он по вечерам ходит на работу, а целыми днями дудит в шкаф. Открывает его, направляет внутрь, в одежду, трубу и дудит, чтобы не раздражать соседей. Репетирует.
Где папа работает, Мишка тоже не знает. В школе учительница у них спрашивала, кем работают папы, и все по очереди рассказывали. А Мишка сказал «я не знаю». Он мог, конечно, сказать, что папа дудит трубой в шкаф, но постеснялся.
Иногда папа ходит куда-то и показывает там, как хорошо он умеет дудеть на трубе, а его не принимают. Не смотрят даже на то, что о нём газета писала. Это когда он выступал в театре с Дэвидом. Дэвид играет на рояле и не говорит по-русски, а только по-английски и по-немецки. С Мишкой он говорил по-немецки. А папа играл с ним на трубе в театре. Но его и в театр не приняли. И папа сказал маме:
— Мудаки. — И сказал: — Голощёкину я подходил, Темирканова устраивал, а этим холодноват.
— Успокойся, — сказала мама, — успокойся.
А папа сказал:
— Так и буду в этой твоей Германии сортиры мыть.
— Что такое мудаки? — сказал Мишка.
И на него накричали.
Музыка из радио папе не нравится. И он переключает его на другую станцию. Снова и снова переключает. Пока не возвращается к первой.
Они едут наобум по улицам. Машин на улицах нет. После Рождества всё погрузилось в отдых. В каникулы. Папа едет медленно, иногда притормаживает. И едет дальше. Наконец, он останавливается. И выходит. Мишка тоже выходит. Они смотрят на высокую ёлку, воткнутую в сугроб. Ёлка кажется живой. Немцы в этом году ёлки не бросают у баков, а втыкают в сугробы. Потому что сугробов в этом году навалом.
— Пойдёт? — спрашивает папа.
— Да, — говорит Мишка.
— Высокая, — говорит папа, — ёлка-палка.
— А ты ехать не хотел, — говорит Мишка.
Папа вынимает дерево из снега и закидывает на крышу машины. И пристёгивает к багажной раме резиновыми жгутами. Крест на крест. И ещё несколько раз крест на крест.
— Вроде держится, — говорит он и садится за руль. Мишка садится рядом.
В машине он ездит, как взрослый. Без детского сиденья. Хотя ему только восемь лет. В кого он уродился такой длинный, неясно. Мама говорит, в её двухметрового дедушку. Которого никто не видел, потому что его на войне убили.
У дома папа отстёгивает ёлку и втаскивает её по ступенькам в квартиру. Мама говорит:
— Хорошая. До старого Нового года простоит.
— Такая перед Рождеством тридцатку стоила, — говорит папа.
— А то и больше, — говорит мама.
— Куда её?
— На балкон.
Мишка разочарован.
— А наряжать?
— Тридцать первого, — говорит мама. — Успеем.
Ёлку выносят на воздух. А к маме приходит клиент. Мишка и папа закрываются в комнате. Мама усаживает клиента в прихожей. И начинает стричь.
Мишкина мама стрижёт клиентов дома, по-чёрному. Стрижёт хорошо, а почему это называется «по-чёрному», Мишке знать не положено. Клиенты после её стрижки становятся моложе и красивее. Даже самые некрасивые и самые немолодые. И все ей советуют идти работать в салон. Но мама от их советов отмахивается, говоря, что диплом техноложки в салонах не котируется. Ещё она говорит: «Клиенты обязаны быть мною довольны. Иначе сдадут». — И: «Я, — говорит, — как врач на больных, на клиентов не обижаюсь». Хотя обижается. Клиенты, они же разные бывают. Есть, например, у неё один весёлый дядька. На днях пришёл, говорит: «Хотите потрясающий анекдот? Бывший дирижёр рассказал. Проститутка, — говорит, — вышла замуж за трубача и через неделю опустилась до его уровня». Мама и папа посмотрели друг на друга и отвернулись. И папа увёл Мишку в комнату, наверно, думал, Мишка не знает, что такое проститутка. А мама спросила только: «Стричь, как обычно»?
— А почему у них ёлка раньше, чем у нас? — спрашивает Мишка в комнате.
— Потому что с ёлкой они своё Рождество празднуют.
— А мы?
— А мы Новый год.
— Почему?
— Так у русских принято.
— А мы русские?
Папа берёт в руки свою трубу и смотрит в неё, как в зеркало, и в ней искажается.
— Ты русский на три четверти.
— На сколько?
— На три четверти. Смотри. Тебя родили мы с мамой.
— Вдвоём?
— Нет, родила тебя мама, я только помогал.
— Как помогал?
Папа начинает что-то мямлить, пытаясь доступно объяснить. Но Мишка говорит:
— Что ты меня запутываешь? Ты скажи, что именно ты делал?
Папа сказать не может. Или не хочет. Поэтому говорит:
— Так! Вернёмся к нашим баранам. Русский ты на три четверти. Две четверти — мамины, одна — моя.
Мишка не очень понимает, что за четверти такие, папо-мамины. Но на всякий случай спрашивает:
— Это мало?
— Для чего?
— Чтобы быть целым русским.
— Да чёрт его знает, — смеётся папа. — Вас, русских, не разберёшь.
Мишка вспоминает, как они ездили летом в Россию и ходили на кладбище.
— А почему у бабушки с дедушкой ёлка стоит и летом тоже? — спрашивает он.
— Потому что она растёт, — говорит папа. — Я её там посадил. Ещё до нашего отъезда.
— Зачем? — спрашивает Мишка.
— Не знаю, — говорит папа. — Обычай такой.
— Русский?
— Наверное, русский.
— Как цветы ломать?
— Цветы?
— Ну, помнишь, — говорит Мишка, — ты цветы сломал, перед тем, как на камень их положить. Сказал — русский обычай. Помнишь?
— Да, — говорит папа, — обычай.
И говорит:
— Помню. Конечно, помню.
2011
Несмотря на дождь, переходящий в ливень
День у Заксов начинается в полдевятого. Когда Закс возвращается с работы. Ленка к этому моменту уже рвёт и мечет. Она мыла зачем-то голову и теперь опаздывает. Надевает одни штаны, надевает другие. Штаны сползают.
— Широки штаны мои родные, — поёт Ленка.
Сначала она необузданно поправлялась. Теперь необузданно худеет. Говорит, из-за стрессов на новой работе. Из-за них она мало ест и часто моет голову. А по утрам есть не может вовсе.
Закс ей говорит:
— Сходила бы ты к врачу.
А она:
— У гинеколога я была. Остальные значения не имеют.
— А почему ты худеешь и не ешь по утрам? — спрашивает Закс.
— По утрам я с детства не ем.
— А с месяц назад ещё как трескала.
С Ленкой говорить бесполезно. Чтобы с ней говорить, надо гороху наесться. Поэтому Закс и не говорит. И она убегает в ниспадающих с бёдер штанах.
— Зонт, — кричит Закс, — возьми. Там дождь.
На углу, у булочной, её перехватывает сосед. Он идёт рядом с Ленкой вприпрыжку, длинными кривыми шагами, и что-то ей говорит. Потом останавливается и никнет.
Сосед этот появился у Заксов недавно. Безобидный и сумасшедший. Целыми днями он торчит на улице. В надежде поговорить по-русски. Наших определяет мгновенно. Подходит и говорит:
— Я русский. Русский. Живу тут. Один. Один живу тут, один. Такая хуйня.
Что ему отвечать — неясно. А он идёт, возвышаясь, сбоку, провожает до дому и возвращается на угол, и опять там стоит. Часто до позднего вечера. Прямо под окнами.
А сейчас он стоит под дождём и смотрит, как мастер из АDAC* реанимирует синий фольксваген. Мастер тоже стоит под дождём. В руках у него ноутбук. За спиной хозяйка машины и трое каких-то людей. Мастер тычет в ноутбук пальцами, задаёт хозяйке вопросы. Хозяйка пожимает плечами. Мастер ныряет в машину и снова из неё выныривает.
Закс наблюдает за этим и чувствует, что пора завтракать. И завтракает. В одиночестве и тиши. И ложится на диванчик вздремнуть.
Минут через сорок встаёт. Утро кончилось. А постель до сих пор не убрана. В ней свила гнездо себе кошка. И видны от неё только уши. Кошке не хватает тепла. Потому что осень и сырость, и скользкий холодный пол. По полу гуляет сквозняк. И ей лучше не вылезать, чем мёрзнуть в его дуновениях. А у Ленки рука не поднимается кошку из постели выселить. И у Закса она не поднимается. Поэтому с осени до весны постель убирается редко.
И всё-таки кошка выходит и сонно движется в кухню. Сообщает, что пора бы пожрать. Закс даёт ей консервов. Кошка стоит над едой и смотрит на Закса снизу.
— Ну? — говорит её взгляд. — Что стоишь?
Закс склоняется к кошке и гладит её, гладит. Потому что кошка не глаженная у них не ест.
Она кивает, мол, хватит, и приступает к трапезе. Закс оставляет её с тарелкой наедине. Но она требует его в кухню — присутствовать. Он идёт и присутствует. А кошка ест и следит боковым зрением, чтобы Закс не вздумал свалить.
Но сваливать Заксу надо. Ничего не поделаешь. Нужно идти на работу к Ленке. Везти с ней какого-то деда. Она же как получила права, так ни разу за руль не садилась. Лет уже, наверное, семь. А теперь он должен сидеть справа и дурно потеть с перепугу, и вцепляться в ручной тормоз.
Ленка выходит, оглядывается. Боится, что коллеги увидят Закса. И подумают, что они едут по своим делам. И вообще, посторонним в служебной машине находиться запрещено. А Закс — посторонний.
Они садятся в Ленкино «Поло». И едут за дедом.
— Левее, — говорит Закс, — левее держи машину. Понимаешь? Левее.
Ленка что-то шипит. Закс орёт:
— Стой. Пропусти.
Ленка пропускает. Сворачивает.
— Тут арка.
— Вижу.
— Сможешь в неё въехать?
— А я знаю?
— Перпендикулярно давай. И медленно.
Они влетают под арку. Закс закрывает глаза. Машина чудом проскакивает в проём.
— Ты что, — кричит Закс, — дура?
— Ну не успела я первую включить. Мне бы автомат.
— Пулемёт, блядь, тебе, пулемёт!
Ленка идёт за дедом.
Закс разворачивает машину и ставит так, чтобы можно было выехать, держа руль прямо.
Они бережно грузят деда и везут на приём к врачу. Дед недоволен, что едет на заднем сиденье. Он всю дорогу ворчит. Сам с собой разговаривает и обещает пожаловаться Ленкиному начальству. Ленка психует.
— Да ладно тебе, — говорит Закс.
— Меня выгонят.
— Не выгонят. Хуйня это, понимаешь? Чистой воды.
После деда Ленка говорит:
— Теперь — к одному алкашу.
Закс удивлён:
— Ты говорила только про деда.
— Алкаш возник дополнительно. Позвонил, чтобы денег ему привезли. Телевизор чинить.
— Денег?
— Ну да. Мы ему пособие на дом возим. Частями, чтобы сразу не пропил. Покупаем еду, то-сё и немного даём в руки. А тут у него телевизор сгорел.
— Так он же их пропьёт, деньги. Тем более без телевизора.
— Не пропьёт. Шефиня десятку ему выдала. Чтоб отстал.
Довольно быстро они разделываются с алкашом и возвращаются на работу. Ленка мучительно паркуется, и Закс уходит домой.
Сосед встречает его на своём посту. Говорит обычное: «привет» и «как дела», и «а я один живу, один, один». После чего достаёт блокнотик и простенькую мобилку. Показывает в блокнотике номер и просит позвонить маме, которая «живёт далеко, далеко».
— А то я, — говорит, — не умею. А она не звонит, не звонит. — И: — Такая вот, — говорит, — хуйня.
Закс набирает номер. Наконец, он хоть что-то может для него сделать. Но металлическая девушка сообщает, что позвонить невозможно, на карточке нет денег.
— Надо пополнить счёт, — говорит Закс, — иначе не позвонишь.
— Ну ладно, ладно, — говорит сосед. — Ладно.
Поднявшись к себе и глянув в окно, Закс видит, как он протягивает телефон какому-то мужику. И блокнотик протягивает. В развёрнутом виде. Наверно, у него новый заёб. Бедный парень.
А дома ждёт уже Закса Ленкин папа. Он принёс ему селёдки с луком. Принёс и говорит:
— Вкусная. Из русской лавки.
Потом говорит:
— Ну что?
Это он о квартире. Которую Закс с Ленкой ему ищут. Потому что хозяин его выселяет.
— Пока ничего.
Папе хочется жить поблизости. И на втором этаже. А если выше, то с лифтом. И чтоб хоть какая-то кухня. И две комнаты. Пусть крошечные. А то в одной — как в камере пыток. Но таких квартир нет. Во всяком случае, в их районе. У них хороший район. Сплошной югендстиль. Его даже англичане в сорок пятом почти совсем не бомбили. И с квартирами тут не очень.
Ответ Закса папе не нравится. Но другого ответа нет. «Ладно, хуйня, — думает про себя Закс. — Как-нибудь рассосётся. Зато, — думает, — он сейчас уйдёт, а я сяду за компьютер — и вдруг получится поработать. А не получится — поваляюсь с книжкой. Может быть даже, до вечера».
Но папа не уходит. И Закс говорит, что уходить нужно ему. Он незаметно суёт в рюкзак книжку. И они вместе выходят. И расходятся. Папа — домой. Закс — в парк за театром. По дороге он нагоняет мужика в чёрном балахоне с косой. «Смерть, что ли, идёт?» — думает Закс.
Тётка с камерой пятится перед ней задним ходом. За смертью несут микрофон. На длинной штанге. Микрофон нависает. Смерть на ходу говорит. Видно, что-то они мутят к своему карнавалу, фашингу.
Закс обгоняет процессию и входит в парк. Жизнерадостные инвалиды обоего пола сидят в самоходных колясках на главной аллее. Они пьют что-то из горлышек и страшно хохочут. Чуть дальше, на мокрой скамейке, актёр повторяет роль. Тарахтит, глядя в небо, скороговоркой. Закс проходит дальше, к Йоханес-кирхе. В ней есть кафе для верующей молодёжи. Ему давно хочется туда заглянуть. Узнать, чем означенная молодёжь отличается от обычной. Но Закс не верующий и не молодёжь, поэтому не заглядывает. Думает — вдруг попрут с первого взгляда. Будет неловко.
Его скамейка — за памятником жертвам фашизма. «Мы умерли, чтобы вы жили», — выбито на памятнике серым.
Скамейка свободна. Закс достаёт из рюкзака пакет. Стелет под зад. Усаживается и открывает книжку.
Домой уходит только потому, что опять начинается дождь. Мелкий, частый и препротивный.
Ленка уже вернулась.
— Завтра, — говорит, — мне к семи. Сегодня ушла пораньше. А это, — говорит, — тебе.
Закс пробегает открытку. Шестнадцать актуальных художников из восьми стран. Впервые, ла-ла в городе, включая Мозамбик.
— Ну?
— Они тебя приглашают. Лично.
Закс сразу всё понимает. Это Игорь, когда в музее выступал, прямо в микрофон наговорил о нём. Мол, живёт тут у вас один из самых-самых, пишущих сегодня по-русски. Ну, в общем, хуйни всякой наговорил. А они, выходит, запомнили и приглашение прислали.
— Надеюсь, с супругой приглашают? — Закс говорит.
А Ленка говорит:
— Ты когда-нибудь картины мозамбикского художника видел?
— Нет, — говорит Закс. — Слава богу.
— Давай сходим.
— Мне ж завтра к пяти на работу.
— А мне к семи.
— Ну вот.
— Слушай, неужели тебя совсем не волнует актуальное искусство?
— Волнует. Я как про него слышу, так рука сразу тянется к этому… К спусковому крючку унитаза.
Тут Ленка начинает дуться.
— А давай, — говорит Закс, — в субботу сходим.
— Так открытие же сегодня.
— Думаешь, на открытии будут наливать?
— Я выставку хочу посмотреть. С людьми пообщаться.
— Я ж не против. Но если выставка мозамбикского художника — должны наливать. Просто обязаны.
— Написано «художники из восьми стран».
— И что за страны?
— Ну, вот — Россия, Украина, Казахстан, Мозамбик, Того…
— Что, и Того? Точно должны наливать.
— Не любишь ты искусство. И людей искусства не любишь.
— Я и остальных-то люблю не слишком…
И беседуют они так с Ленкой, а Закс думает: «Опять, — думает, — не высплюсь, опять бригадир будет на мой перегар оглядываться. Раньше одиннадцати мы ж не вернёмся. А в полпятого выезжать».
Работает Закс наполнителем. Полки в супермаркете наполняет. Товарами. Магазин открывается в семь, наполнители работают с пяти. Раньше, когда он открывался в восемь, работали с шести, и это было нормально. А с пяти уже перебор. Всегда спать хочется. Хоть после сна, хоть перед. Радует только, что всего двадцать часов в неделю. Но и зарплата за двадцать. Что радует меньше. Ну да им с Ленкой хватает. Тем более Закс кое-какими публикациями в прэссе и редактированием всякой хуйни добирает. Вроде всё это и по мелочи, но на отпуск где-нибудь в Греции-Италии-Хорватии набирается.
Игорь его достаёт, мол, мог бы спокойно выступать и этим тоже что-то зарабатывать. Но Закс же в ящике в отличие от него замечен не был, а без этого хрен здесь выступлениями заработаешь. «Ну хоть бы для самоощущения выступал», — Игорь его воспитывает.
А Закс говорит, что не знает точно, как себя самоощущает. Игорь: «Ну не наполнителем же». А Закс: «Почему нет? Наполнитель — это звучит гордо. Хотя и глупо».
Короче, всё у них с Ленкой в порядке. А с новой Ленкиной работой вообще всё хорошо будет. В материальном смысле. Оно и в другом смысле было бы хорошо. Если б не Ленкино желание постоянно куда-то бежать.
Так что одела она Закса более или менее прилично и потащила.
— Заодно, — говорит, — прогуляемся.
Закс говорит:
— Дождь там.
А она:
Вот под дождём и прогуляемся.
Ну, догуляли они таким образом до музея. Мокрые, как цуцыки. Отряхнулись. Ленка говорит:
— Видишь машину горчичного цвета?
— Горчичный цвет, — Закс говорит, — это эвфемизм.
— Это машина моей шефини.
— И что?
— Значит, она здесь.
— Ну, тогда тебе сам бог велел.
На это Ленка сказала:
— Злой ты.
И вошла в музей.
А там, конечно, уже речи вовсю звучат. Торжественные. На разных языках. Мол, культура, искусство, интеграция. Послушали они с минуту для приличия и протиснулись за спинами в следующий зальчик. Чтобы определить, где наливают, и чтобы выставку посмотреть — раз уж пришли.
Определили. Выпили вина красного, согревающего изнутри. Ленка один фужер выпила, а Закс три. Потом ещё по фужеру взяли и уже с ними в руках стали по залам прохаживаться. Как люди, близкие к культуре и искусству. Туда-сюда. Ленка всё хотела этого художника из Мозамбика найти, а он не находился.
В общем, ходили, смотрели, хотя смотреть, собственно, было не на что. Хуйня какая-то по стенам развешена и под каждой хуйнёй — название, имя автора и цена.
Ленка у оленя с крыльями вместо рогов остановилась, «смотри, — говорит, — тыщу евро стоит».
— Тыща евро — это мечта идиотов, — Закс говорит. — А стоит он… Да ни хуя он не стоит.
Так, минут за пятнадцать прошли из конца в конец экспозиции со всеми остановками. Закс вино допил и говорит Ленке, головой качая:
— Боже, — говорит, — боже, какая ж везде хуйня нас окружает, какая хуйня.
То есть это он так думает, что говорит ей. А на самом деле он это всем присутствующим говорит, во всё воронье горло. Громко, честно и справедливо. И неожиданно даже для самого себя. Конечно, ответом ему была тишина. Мёртвая такая тишина, гробовая. А потом их с Ленкой начали окружать и теснить. И художники из всех восьми стран мира стали над ними нависать, жестикулировать и орать. На всех своих восьми языках. Нехорошо стали орать, с пеной, как говорится, у рта, угрожая полицией.
«Почему не бьют? Загадка», — думал Закс и пятился к выходу. По его представлениям должны были бить. Художники же.
И представления в конечном счёте Закса не обманули. Где-то в гуще и сутолоке вмазали ему большим костистым кулаком по носу. А нос у него всегда был слабый. И кровь ударила из ноздрей фонтаном. Прямо на приличный костюм.
«Главное никакого тебе языкового барьера, — удивлялся Закс, зажимая красный нос пальцами, — все поняли, что обидел я их. Хотя правдой обидеть вроде бы и нельзя».
А тут ко всему Ленке поплакать вздумалось.
— Теперь, — говорит, — шефиня меня точно выгонит.
— Да она не поняла ни черта. Она ж немка.
— Немка. Из-под Семипалатинска.
Конечно, после этой выходки помещение они гордо, хотя и в крови, покинули. От греха на хуй. Несмотря на дождь, переходящий в ливень. И вот идут они с Ленкой одиноко вдвоём под зонтиком, друг к дружке прижались, а параллельным курсом спокойно и величаво едет на велосипеде негритянка. Красоты, надо сказать, необыкновенной и вся с головы до ног в белом. Без зонтика едет, под струями. То есть зонтик у неё был, но его захватило ветром и понесло по проезжей части, коверкая и переворачивая.
___________________________
* ADAC — Allgemeine Deutsche Automobil-Club (общенемецкий автоклуб то есть).
2013
Суши с двух до шести
Эту глянцевую рекламку муж вынул из почтового ящика в субботу. Вместе с ворохом других рекламных листков, газет и проспектов. И она выскользнула ему под ноги. Жена подняла бумажку и пробежала по ней глазами.
— Что пишут? — сказал муж.
— Суши-бар заманивает, — сказала жена. — Платишь десятку и ешь без ограничений. Правда, только с двух до шести в понедельник.
— Напитки входят?
— Размечтался.
— Может, пойдём, попробуем наконец суши? — сказал муж. — Всё равно делать нечего.
— А если это дрянь? Китайцы в кулинарии способны на любую гадость.
— Суши — это не китайская еда.
— А какая?
Муж взял рекламку, изучил. Для верности.
— Написано же — японская.
— Да какая разница. Всё одно экзотика.
И всё-таки они решили сходить. Несмотря на то, что любили простую, понятную пищу, а экзотику терпеть не могли.
Пошли пешком. Чтобы прогуляться и чтобы выпить. Ну, и чтобы бензин без особой нужды не жечь.
Ближе к центру обнаружилась куча полицейских машин. Одни перекрывали собой перекрёстки, другие не торопясь курсировали по улицам. Пешие полицейские патрули тоже встречались. А в небе над городом тарахтел вертолёт.
— Что это тут сегодня? — сказал муж.
— Может, футбол? — сказала жена.
К бару они пришли без десяти два. Несколько человек уже сидели за столиками. На которых не было даже тарелок. На стойке бара тоже ничего не было. Хотя тарелки как раз были. Две высоченные стопки чистых белых тарелок. Метрдотель стоял неподвижно у стены. Над ним висел меч. Видимо, самурайский.
— И это, по-твоему, японец? — сказала жена.
— Японец.
Они сели за свободный столик в углу.
— Что я, японцев не видела? Китаец это.
Муж поднялся, подошёл к метрдотелю и заговорил с ним. Прижимая руки к груди. Метрдотель слушал и смотрел свысока. Вернее, снисходительно. Потом что-то коротко ответил.
— Он вьетнамец, — сказал муж, вернувшись.
— Я ж говорила, — сказала жена.
— Ты говорила — китаец.
— Что ты придираешься к мелочам?
Наконец, из-за кулис, весь в белом, появился ещё один вьетнамец. Хотя этот вполне мог оказаться и японцем. Он стал выносить подносы. Один за другим. Один за другим. Когда подносов на стойке скопилось штук десять, вьетнамец-метрдотель пригласил посетителей угощаться.
У стойки быстро выстроилась небольшая очередь. Как в столовой самообслуживания.
Они заплатили двадцатку и с каждого подноса взяли по суши. Добавили каких-то загадочных соусов и приправ.
— Так они из риса, — возмутилась жена.
— Ну да.
— У меня ж и так запоры. Мне только риса не хватает.
— Чего ты орёшь? Со своим дурацким акцентом. И что, трудно сказать не запоры, а проблемы с желудком?
— У меня нет проблем с желудком. У меня запоры.
Жена надулась и замолчала. Потом сказала:
— Вилки принеси.
Муж встал, взял из вазона на стойке две вилки. И два ножа тоже взял.
— А ножи зачем? — сказала жена.
— Смотри, тут красная рыба, — сказал муж. — А тут креветки, и вроде даже икра. И ещё какие-то дары моря.
— А завёрнуто всё в рыбью шкуру.
— Не думаю.
Они начали есть.
— По-моему, нормально, — сказал муж.
— А по-моему, дерьмо, — сказала жена.
— Скажи ещё «выброшенные деньги», — сказал муж.
— Выброшенные деньги, — сказала жена.
Ругаться сегодня не хотелось. Не было настроения. Поэтому муж промолчал.
— Ты выпивку не забыл? — сказала жена.
— Нет, — сказал муж. — В сумке.
— Давай, — сказала жена.
— Во что? — сказал муж.
Жена не ответила. Муж видел, что она не только не отвечает, но и злится.
— Сейчас, — сказал муж и вышел из-за стола. Купил у стойки маленькую бутылочку пива и получил к ней высокий стакан.
— Ещё один, — сказал он. — Если можно.
Бармен удивился, но стакан дал.
— Вот, — сказал муж, — смекалка. От тебя заразился.
— Radeberger, — прочла жена золотую надпись на стакане, — Rade-berger.
Пиво пить не стали. Спрятали в сумку. А в стаканы муж налил дешёвого вискаря.
— Даже по цвету подходит, — сказала жена.
— Только пены нет, — сказал муж. А жена сказала:
— Хорошо, что у тебя за спиной колонна. Можно наливать незаметно.
Время медленно шло. Они ели и пили. И опять ели. Суши жене не нравились. Но надо же было что-то есть. Дверной колокольчик звякал всё чаще. Посетителей всё прибавлялось. Многие имели на груди наклейки с надписью «Gegen Gewalt"*. Суши выносили, и выносили. Наверно, на кухне их готовила в бешеном темпе целая рота вьетнамцев. Или японцев.
Уже не осталось свободных столиков. Уже одна парочка примостилась у стойки, с краю, рядом с подносами.
— Неужели всем этим людям в понедельник нечего делать? — сказала жена. — Только жрать.
— Не злобствуй, — сказал муж. — Лучше выпей.
— Но должны же быть у них какие-нибудь дела, работа…
— Пятый час. Я заканчивал работу в три.
— Ну, я не знаю, тогда дети, домашние заботы. Родители, в конце концов, телевизор. Не все ведь живут, как мы.
— Не все, — сказал муж и поднял свой стакан, чтобы чокнуться.
— Только не нужно меня спаивать, — сказала жена.
— Это ты говоришь мне? — сказал муж. — Ты? Мне?
Жена не ответила.
Часов около пяти в бар вошли два фашиста. И внесли с собой запах гари.
— Я вспомнил, — сказал муж. — Теперь ясно, почему столько полиции.
— И?
— Сегодня же пятое. Наци маршируют по городу. С факелами.
— А наци тоже едят суши? — сказала жена.
— Наци всё едят, — сказал муж. — На то они и наци.
Люди в баре поглядывали на вошедших. Как бы вскользь. Как бы исподтишка. Первый, крупный, фашист держал в руках какие-то деньги, второй, помельче, рылся в своём бумажнике. Наконец, они положили перед барменом купюры и несколько монет. Бармен тщательно пересчитал деньги — и улыбнулся фашистам.
— Поулыбайся мне, — громко сказал крупный фашист. — Поулыбайся.
Они навалили в тарелки суши. С горой. И понесли к удачно освободившемуся столику. И молча стали есть из тарелок. Сходили ещё раз к стойке и ещё раз вернулись с полными тарелками.
— Куда в них столько влезает? — сказала жена.
— На шару же, — сказал муж.
Очистив тарелки, фашисты достали бутылку шнапса. Мелкий демонстративно глотнул из горлышка. И передал бутылку крупному.
— У нас не курят, — вежливо сказал им метрдотель. Намекая на что-то ещё.
— А мы не курим, — сказали фашисты. — Мы пьём.
Мужу тоже захотелось выпить в открытую. Заказать, например, двойной «Мартель» и выпить. Но было жалко денег.
— Жалко, что я не вьетнамец, — сказал он. — Пошёл бы работать в суши-бар.
— Кем?
— Да тем же метрдотелем.
— Ты бы хоть куда-нибудь пошёл работать. А то диван уже до пружин пролежал.
— Я не виноват, что меня сократили.
— А кто виноват?
— Достала, — сказал муж. — Давай хоть сегодня посидим мирно, поедим этих чёртовых сушей, выпьем, переспим как люди. Ну пусть нам будет сегодня хорошо.
Они выпили и съели по рулетику. Вообще-то, поначалу муж никак не мог привыкнуть, что выпивку закусывают едой. Но за год совместной жизни жена его приучила. И ему это даже понравилось.
— А чего это фашисты сегодня выползли? — сказала жена.
— Пятое марта.
— Пятого марта Сталин помер. Если я, конечно, правильно помню.
— Пятого марта, в конце войны, разбомбили наш город.
— Кто?
— Кажется, американцы. Или англичане.
— Вот суки. А при чём тут фашисты?
— Они протестуют.
— Против англичан?
— Вообще протестуют. В основном, против иностранцев.
— Значит, и против меня?
Муж пожал плечами.
— Они на меня смотрят.
— Ты красивая девка, вот и смотрят.
— Они плохо смотрят. По-скотски.
Муж вывернул шею, чтобы выглянуть из-за колонны. Фашисты пялились на его жену и ухмылялись.
— Скажи им. Ты мужчина или кто?
Муж пригнулся, налил себе немного, опрокинул внутрь. И пошёл к фашистам.
— Ребята, — сказал он. — Пожалуйста. Оставьте мою жену в покое.
— Ты уверен, что она тебе жена? — заржал тот, что помельче. — Её случайно не Наташей зовут?
— Я сказал, оставьте!
Мелкий фашист вскочил, но ткнулся носом в нависший подбородок мужа. Из левой ноздри у него закапало. Фашист поймал красную каплю ладонью, сказал «кровь» и тихо опустился на стул. Похоже, он не переносил вида человеческой крови и намеревался упасть в обморок.
Вместо того чтоб вступиться за друга и соратника, его товарищ глотнул шнапса.
Метрдотель сказал что-то в телефон. И через минуту в баре появилась полиция.
— Наци не виноваты, — сказал метрдотель, — драку затеял молодой человек.
— Они приставали к моей жене, — сказал молодой человек.
— Это неправда, — сказал метрдотель.
— Вы просто не видели, — сказал молодой человек.
— Я всё видел, — сказал метрдотель. — Всё без исключения.
Полицейский взял нарушителя под руку.
— Пройдёмте, — сказал он, — пожалуйста. И вы тоже.
Фашисты встали и пошли к выходу.
Полицейский склонился к жене задержанного.
— А вы с нами пойти не хотите? — сказал полицейский.
— Нет, — сказала она. — С вами — не хочу, — потом вгляделась в этого красавца попристальнее и сказала:
— А впрочем…
______________
* Против насилия
2012
Подарок из двух предметов
Нас с Машкой пригласили на день рождения. Лушин пригласил. Лушин — это художник такой, многим малоизвестный, но успешный. В материальном смысле слова. Он в сквере шаржи на прохожих рисует, гарантируя портретное сходство плюс элемент юмора. Шаржами и живёт. Встретил нас случайно, меня даже узнал и говорит:
— Приходите, — говорит, — завтра в мастерскую в три. Выпьем в мою честь алкоголю.
Конечно, своим этим приглашением он застал меня врасплох. А Машка прямо вся расплылась. И свою голливудскую улыбку обнажила. Очень ей, видно, хотелось в гости со мной пойти. К художнику — не хрен всё-таки собачий. Да и сам я как-то уж очень давно не получал никаких приличных приглашений. Была, правда, накладка — позвали на свадьбу и на похороны. В одно и то же время. Так хотелось пойти и туда, и туда — хоть разорвись. А чтобы на день рождения… Даже не помню, когда в последний раз. Может, и никогда. Эмигранты, они к приглашениям не очень склонны. Они сами по себе живут, каждый в своём углу и узком кругу. А с аборигенами мы без дела, считай, не контачим. Потому что они понаехвших не любят. И я ответил Лушину «ну конечно, придём, а как же». Хотя и отвык уже выпивать по надуманным поводам. Да ещё в строго означенное время. Я привык выпивать когда вздумается. Или когда чувствую склонность в душе, а также наличие нерастраченных возможностей. Машка примерно к тому же самому привыкла. К хорошему человек быстро привыкает.
Я говорю:
— Как думаешь, чего это он нас вдруг пригласил?
— А я не думаю, — говорит Машка.
А я порылся в карманах, извлёк из них всю полезную наличность и говорю:
— Ладно. Повращаемся в кругу европейской богемы, мать бы её. И выпьем в кои-то веки на шару.
Машка говорит:
— На шару! А подарок дарить? Какая ж тут шара.
Да, Машка, она дальновидная. Сразу поняла, в чём тут подлянка зарыта. За это я её и люблю. Но и я тоже со своей стороны кое-что заподозрил: «Сейчас, — заподозрил, — скажет, что у неё на такое ответственное мероприятие нечего надеть и надо бы что-нибудь ей купить. Мол, Лушин как-никак художник, у него публика в мастерской соберётся избранная и общество вполне приличное — Европа ж кругом». И прощай мои последние накопления. А какое на хуй общество в этом подвале Лушинском? Который он называет мастерской. Я раза три там был — или пьют, или ебутся. Правда, культурно. Среди картин и статуй. Картины по стенам стоят. Прислонённые. И статуи тоже стоят и тоже голые.
И подождал я этих, запланированных мною слов, а Машка ничего такого не сказала. Не оправдала надежд. Надо признать. И отдать ей должное.
— Ну, пошли, — говорю, — в таком случае за подарком. Гулять так гулять.
Машка говорит радостная:
— Пошли. Погода хорошая.
— Погода мне глубоко безразлична, — говорю, — хорошая, плохая. Мне, хоть вообще бы её не было.
— Этого быть не может. Без погоды — неестественно, — говорит Машка и берёт меня под руку. И мы начинаем праздно прогуливаться по улицам в попытках совершить шопинг, так сказать.
И прогуливаемся мы так, пока меня от этой прогулки не начинает тошнить. По-настоящему. И я:
— Машка, — говорю, — а чего мы ищем? Ты понимаешь?
— Не очень, — говорит Машка.
— И я, — говорю, — всё чего-то ищу, ищу, а чего — понимаю не очень. Может, надо уже понять? Ты как считаешь? А то тошнит.
— Давай краски ему купим, — Машка парирует.
— Какой краски?
— Ну, давай синей.
— А ты в краске разбираешься?
— Для волос.
— Я так и знал, — говорю. — Краска отпадает.
После краски медленно отпали обувь, одежда, украшения, галантерея, часы и бытовая техника. Гаджеты и всякое тому подобное добро отпало тоже. По разным причинам, но отпало. И Машка капитулировала. Предложив закончить наш вынужденный поход покупкой спиртного напитка. Причём элитарного. Я ей говорю:
— У меня на такой напиток лишних денег не хватает.
А она с вызовом:
— Да у тебя всегда лишних денег не хватает.
Унизила, значит.
— Не в деньгах счастье, — говорю. — Ты не знала?
— Знала, конечно. Конечно, знала, — даёт Машка задний ход. — Вон у Феди, — говорит, — этих денег — как грязи. А у дочки опухоль. Вот тебе и деньги.
Я смотрю на Машку. Посреди дороги. Какой Федя, какая дочка?
— Погоди, — говорю, — при чём тут твой Федя?
— Федя не мой, — Машка говорит. — Федя общий. А Лушину я бы подарила коньяк «Камю».
— Кому «Камю»? — «Камю» меня возмутило до глубины души. И это понятно. — Да Лушину что «Камю», что шнапс, что «Шипр».
— «Шипр» — это молдавский? — Машка говорит. Шутит она, видите ли. Или прикидывается.
— Кстати! Может, из парфюмерии что-нибудь подберём?
А мы как раз в большой супермаркет забрели. То есть не в супер, а в гипер. Я в нём всё знаю, потому что работаю. Как в детстве мечтал — с пяти утра. Полы мою машиной за 7,56 в час. «IPC Gansow Premium» машина называется. Gans в переводе — гусь. Выходит, значит — Гусев первого класса. Хорошая машина, зелёная. И скоростная. Только успевай за ней бегать. Я вообще-то секьюрити хотел к ним наняться. Пришёл, а они говорят вежливо: «Вы на себя посмотрите. Какой из вас с вашим ростом и весом секьюрити? Хотите вон — у нас на машине работать некому? Был дед шустрый, да помер вчера. Скоропостижно». Я и согласился. Тут и не на такие предложение люди соглашаются. Тем более работа мне нравится. Начальства нет, голова свободна, плечевой пояс и ноги — под нагрузкой. Чем не фитнес-клуб. Не говоря о том, что однажды я там десятку нашёл. У кассы.
В общем, поднялись в парфюмерию. Стоим. Вспоминаем. Как он предпочитает пахнуть, Лушин?
— Ты случайно не помнишь? — я говорю. — Ты к нему поближе стояла.
— Стояла, — Машка отвечает. — Ты хочешь подарить ему дезодорант? Вот, очень хороший.
— Это мужской?
— Нет, обычный.
Я говорю:
— А не обидится Лушин? Решит ещё, что это намёк.
— Смотри, — Машка говорит.
Я оборачиваюсь и вижу какого-то бомжа. Бомж берёт с полки пробник — брызгает подмышками, берёт другой, орошает район ширинки, третьим увлажняет лицо и уши. Остаток выплёскивает в рот. И уходит из магазина в какую-то свою действительность. Дыша духами и всем остальным тоже дыша. Я чувствую, что завидую бомжу. Он бы не стал ломать себе голову подарком. Пришёл бы, и всё. Или не пришёл. А мы вот ломаем. Хотя и безрезультатно. До того безрезультатно, что обращаемся за помощью к продавцу. Он как раз у эскалатора отдыхал, в центре зала. Облокотившись на какие-то ящики.
— Простите, — говорим — не могли бы вы нам помочь?
А он говорит:
— Помочь? Вам? Да на хуй вы мне сдались! — И стал заваливаться вместе с ящиками на эскалатор. Я хотел было его подхватить. Но по злобе раздумал. И эскалатор унёс его вниз по течению. Почти бесшумно.
— Наш, — сказала Машка. — Был бы не наш, написала б на него жалобу.
— Был бы не наш, не послал бы нас на хуй, — говорю.
И так мне чего-то нехорошо сделалось. На душе. Так нехорошо. Хоть плачь.
Слава богу, Машке пришла наконец в голову нормальная мысль — купить Лушину крем для бритья.
— А он бреется? — спрашиваю.
Машка подумала.
— Лицо вроде нет, — говорит. — А голову вроде да.
— Я считал, она у него от природы такая.
— Ты присмотрись. Бритая она. Может, не вся, может, часть, но бритая.
— А другая часть?
— А другая от природы.
Часа полтора выбирали мы этот крем. Их же теперь до фига, кремов. Поэтому выбор труден. Тюбики, баллончики, баночки. Щупали их, рассматривали, обнюхивали и купили лосьон. И не для бритья, а после. Ну, дешевле он был. Существенно. А поразмыслив, и чекушку водки купили. Традиционно на всякий случай. «Русский стандарт». Книг современные люди не читают, особенно художники, так что теперь водка — лучший подарок. А тут, в европах, ещё и дорогой. Можно даже сказать, ценный. Я говорю:
— За что действительно стоит любить нашу Родину — так это за цены на водку.
— Ну конечно! — Машка мне возражает. — Русское телевидение смотреть надо. Подорожала водка на Родине. Догнала и перегнала Европу. А, может, и Америку.
— И что же, теперь совсем не за что её любить? Родину?
— Ну, не знаю. Бензин там ещё дешёвый, но плохой.
— Зачем нам бензин?
Нет, бензин мы, слава богу, не покупаем. А подарок, значит, купили. Нормальный, я считаю, подарок. Из двух предметов…
Зря только сегодня мы это сделали. День рождения-то завтра. В три часа. А мы купили сегодня. И лосьон, и «Стандарт». Чтоб, значит, завтра уже ни о чём не беспокоиться. Ну и всё. Ночью, пока мы сначала любили друг друга, а потом мирно спали, нежась в изнеможении, случилось непоправимое. И невероятное. Судя по всему, какие-то злоумышленники тайно проникли в квартиру, и подарок — наш с Машкой подарок из двух предметов — похитили. Спиздили, то есть наш подарок. Извините за уточнение. Но вдали от Родины очень хорошо понимаешь, что «похитили» и «спиздили» — не совсем синонимы. Большое видится на расстоянии.
Правда, никаких улик, а также и следов постороннего присутствия в квартире обнаружить не удалось. Машка смотрит честными глазами, хотя и в сторону, клянётся, что спала мёртвым сном. Я вроде тоже с ней спал. А если бы и не спал. Лосьон-то уж точно я взять не мог ни под каким соусом, я же всё-таки интеллигентный человек. Хотя… Чёрт его знает… Мама, помню, говорила, что в детстве я страдал лунатизмом. А что, если и сейчас страдаю?
Так что на день рождения мы не попали. Неудобно же, с пустыми руками на день рождения. Но и сидеть друг с другом — противно. Пошли, чтобы не переругаться, просто так, в город. Погулять на свежем субботнем воздухе и на солнце погреться. Идём, греемся мимо «Чибо», а из него такой запах доносится, не запах, а целый аромат. Мы с Машкой замерли не сговариваясь и носами повели.
Машка говорит:
— Как кофе пахнет.
— Да, — говорю — изумительно.
— Может, выпьем по чашечке?
Я говорю:
— Да. Чёрного.
Машка говорит:
— Или со сливками?
— Давай со сливками.
И тут она вдруг без какой-либо подготовки:
— Смотри, — говорит, — какая кофточка симпатичная, видишь? И размер мой.
Врать не буду. Меня эти её слова, блин, несколько обескуражили. И в высшей степени взбесили. Сбылось, значит, моё подозрение, сбылось:
— Да иди ты, — говорю, — в пень со своей кофточкой.
Сказал это в сердцах — и домой ушёл.
А она осталась.
2013
Ошибка охранника
I.
Вечерние смены Густаву нравятся. Но меньше, чем утренние. Вечером народу больше и работать сложнее. Зато перед работой можно позволить себе бутылочку пива. В обед. Как он любит. Обычно-то Густав её себе не позволяет, но знает, что это можно, разрешено.
Он лысоват, толстоват и чуть хамоват. А также здоров и огромен. И согласно своим способностям, работает тайным охранником в гипермаркете «ТОМ». Ходит с тележкой под маской рядового покупателя и следит. Чтобы кто-нибудь чего не спёр. А тех, кто спирает — безжалостно скручивает, вплоть до того, что кладёт лицом в пол и удерживает до прибытия полиции. Особенно он настораживается, когда слышит русскую речь. Не потому, что русские, в смысле, немцы из Казахстана и евреи отовсюду, воруют больше других, просто русская речь его настораживает. Возможно, это гены. В смену нахаживает Густав до пятнадцати километров. И по числу поимок ему нет равных. За это он регулярно получает от шефа благодарности. А премий не получает. Так как ловить воров входит в его служебный долг.
В нерабочее время Густав живёт один. У него нет ни жены, ни подруги. Поэтому он посещает пуф* на Ляйпцигерштрассе. Правда, редко. Раз в месяц. В пуфе Густав берёт всегда одну и ту же девушку — Наташу. Она то ли русская, то ли чешка, то ли полька. Но в данном случае национальный вопрос Густава не волнует. Потому что в Наташе ему нравится совсем другое. И ей в нём, наверно, тоже что-то нравится. Не зря же она просит его приходить почаще. На эти просьбы Густав не отвечает. Молчит, и всё. В конце концов, это его дело — когда приходить и как часто. Не может же он посвящать Наташе всё свободное время и все свободные деньги. Он должен ходить и в пивную, и в боулинг, и в фитнес-клуб. И на отпуск себе откладывать должен. И на старость.
Зато он думает о Наташе на работе. Думать в любом случае о чём-нибудь нужно. Он думает о ней. Особенно если видит девушку, на неё похожую.
Эта девица, кстати, тоже Наташу напоминала. Хотя видел он её только со спины. Спина показалась ему подозрительной. Такая узкая, суетливая спина. И, конечно, девица сунула в рюкзак бутылку Мартеля и палку салями. А чипсы, багет и лимон в тележку положила. Для отвода глаз. Чтобы за них, значит, заплатить в кассе. И он всё это издали профессионально заметил. Приблизился к ней сквозь толпу покупателей. Занял выгодную позицию и, как только она расплатилась, налетел с тылу. Хотел по привычке затолкать в служебное помещение, но она с перепугу от него увернулась. Пришлось завалить её на пол прямо у касс. Чтоб уж не ускользнула. Из-под ста двадцати килограммов. А она, надо отдать ей должное, хотела. Извивалась и что-то такое сипела, ругательное. «Arschloch, Scheiße"*** и тому подобные гадости.
И вот, лежат они на полу в два этажа, люди мимо тележки катят, некоторые через них переступают, а полиция не едет. Обычно через минуту-две на месте. А тут не едет. И, конечно, девица эта, под охранником — пытаясь его сбросить — начинает делать неприлично-поступательные движения задом, передающиеся телу охранника тоже. При этом она кричит:
— Насилуют!
— Не насилуют, а фиксируют, — говорит охранник.
А она своё:
— Насилуют, спасите!
Естественно, покупатели их понемногу обступили. В возмущении. Цивилизованная страна всё же. Не какой-нибудь Бангладеш. Обступили, стоят-ждут. Чем дело кончится. И вот тут уже появляется полиция.
— Быстрее, — говорят покупатели, — здесь девушку насилуют. У нас на глазах.
Полиция говорит:
— Интересно.
А охранник говорит:
— Да вы что? Да я ж… Да вы ж меня знаете.
Полицейские стоят молча — все незнакомые. Может, новенькие. Но самое главное, поглядел он наконец на отловленную девицу. Вблизи. И охренел.
— Не та, — только и смог выговорить.
И ещё:
— Как же это?
Потом начал он нервничать и удивляться:
— А где же та?
В общем, подхватили охранника под руки и в бус полицейский культурно запихнули. Пострадавшая и три самых активных свидетеля тоже туда влезли. Чтобы ехать в участок. Но охранник стал вырываться и орать, что должен поймать воровку, которая с Мартелем, иначе она безнаказанно уйдёт. Полицейские его, конечно, наручниками к себе пристегнули. Чтоб не дёргался. «Сопротивление полиции, — говорят, — знаешь, чем пахнет?» А один из них ещё и воздух в себя потянул носом:
— О, — говорит, — да он пьян.
И надо же было Густаву именно сегодня эту разрешённую бутылку пива выпить. Запах-то пивной в нём долго держится. Свойство организма такое. Особенность.
— Кто пьян? — возмутился Густав. — Я в двенадцать часов одну бутылку пива всего. За обедом. Имею право.
А полицейский с тонким нюхом говорит:
— Поори тут ещё, поори.
ll.
В отличие от Густава Инна красива и беспечна. И не может закончить университет. Седьмой год учится, и всё никак. Бывает. Естественно, стипендию давно не платят. Поэтому она в пятницу и выходные работает. Официанткой в греческом ресторане — там хозяин русский и почти весь персонал. А в остальные дни Инна подрабатывает в пуфе на Ляйпцигерштрассе. Если есть желание. По свободному графику. Руководство пуфа ей всегда радо, потому что она пользуется спросом и хорошо владеет профессией. Но всё равно денег, чтобы жить достойно в своё удовольствие, не хватает. А жить без удовольствия Инна считает унизительным. Но живёт, конечно. И мирится с тем, что государство доплачивает ей за квартиру. Как малообеспеченной. На том же основании она ворует в супермаркетах. Не часто и не много. Под настроение. Ну, там бутылку хорошего коньяка. Или палку итальянской колбасы. Той же салями Милано. Чтобы устроить небольшой праздник. Себе и подругам. Потому что, как говорят немцы, Spaß muß sein!*** И они правы. Не всегда, но тут — точно.
Короче, прибежала она домой, где подруги её ждали. Отдышалась.
— Еле, — говорит, — ноги унесла.
Подруги говорят:
— От кого?
А она:
— Да от воздыхателя Наташкиного. Следил за мной в «ТОМе». Чтобы поймать.
— Ну?
— Ну, и не поймал. Спутал с какой-то тёлкой. Я задницей почувствовала, что он меня ловит, и в щель за полки нырнула, из толпы. Хотела выложить всё из рюкзака. А он на другую накинулся. По ошибке. Ну, пока то-сё, я расплатилась и ходу.
— А с другой, той — что? — Наташка спрашивает.
— Да ничего. Он её повалил, а она начала вопить, что её насилуют. Размечталась. Полиция приехала и его повязали.
— Как? Он же охранник.
— А я знаю, как? Видела, что повязали. Ладно, давайте гулять.
Они нарезали лимон, колбасу, багет, разорвали упаковку на чипсах. И стали выпивать. Только молча почему-то. Сидят, выпивают потихоньку. Как на похоронах. Ну, ещё заедают выпитое. Кто лимоном, кто чипсами, кто колбасой. И настроение у всех постепенно портится. Почему — неясно.
А потом, через время, по местному ТВ Инна сюжет увидела. Как охранника этого судили. Правда, ему повезло — от изнасилования отвертеться удалось. Все свидетели под присягой утверждали, что он делал характерные движения нижней частью туловища. Но адвокат потребовал провести следственный эксперимент и доказал, что не обвиняемый их делал, а потерпевшая. А обвиняемому они только передавались по законам физики. И алкоголя в крови у него, считай, не обнаружили. Хотя за превышение полномочий, оскорбление действием, насилие над личностью и нанесение травм лёгкой тяжести — всё-таки осудили. Охранник оправдывался, мол я же воровку задерживал, будучи при исполнении. А судья сказал: «Задерживать надо, не унижая преступника и его человеческое достоинство. Тем более что вы невиновную задержали».
И проснулась после этих новостей в Инне совесть. И давай её грызть. Раньше она не знала, что это такое. Вообще не знала. И даже родная мать её бессовестной называла. Из-за пуфа. А тут на тебе. Грызёт и грызёт. На ровном, считай, месте. То есть, конечно, не совсем на ровном. Всё-таки человека из-за неё посадили. Считай, ни за что. Вот это, видно, её и мучило. Что из-за неё и ни за что.
И решила она идти на приём в тюрьму. Просить свидания. Пришла.
Ей говорят:
— Какое свидание, он понедельно наказание отбывает. В воскресенье выйдет, и свиданничайте сколько влезет.
А она говорит:
— Понимаете, мне очень надо.
Ей объясняют, что нету ни причин, ни оснований. А она «мне надо. Понимаете?»
Ну, и в итоге тюремное начальство сказало:
— Дайте свидание этой сумасшедшей.
И ей дали свидание. Привели Густава.
Он смотрит — девка какая-то красивая. Красивее Наташи.
— Ты кто? — говорит.
А она:
— Я хочу спросить, может, нужно тебе чего?
А он:
— Да нет, я по неделе сижу. В счёт отпуска на работе беру и прихожу сидеть.
— А когда кончится отпуск?
— Когда кончится, придумаю что-нибудь.
— Это хорошо, — она говорит.
А он:
— Тебя как зовут?
— Инна.
— Где-то я тебя, Инна, видел.
— Какая разница, — она говорит, — где.
— Никакой, — он соглашается. — Действительно.
Ну, так поговорили они ни о чём, и ей на душе полегчало. И отлегло вроде. Встала она, чтобы уходить.
— Будь здоров, — говорит, — увидимся.
А он:
— Да я здоров. И увидеться, — говорит, — совершенно не против.
Говорит, а сам её разглядывает в упор мучительно. И:
— Где же, — говорит, — я тебя раньше видел? Ну где?
Так и не вспомнил.
_________________
* Публичный дом
** Распространённые немецкие ругательства. Означают «дырка в жопе» и «дерьмо».
*** Удовольствие должно быть.
2013
Пофигу
В Германию Турсун Зарипов приехал на жене. Она у него немкой оказалась. Так посмотришь — никогда не скажешь. С виду. А внутри, значит, немка. И когда четверть века назад «русские» немцы в Казахстане стали массово сниматься и ехать на историческую родину за счастьем, жена Турсуна тоже запросилась. А ему было пофигу. Он вообще-то мечтал в родной Узбекистан навсегда вернуться, но махнул на всё рукой и сказал: «Поехали». И они поехали.
После лагеря как-то устроились. На курсах жена быстро затрещала по-ихнему. У неё всплыл в памяти язык детства, на котором она говорила до того, как в русскую школу пошла. Другой-то школы у них под Петропавловском не было. А у Турсуна нечему было всплывать и дело с языком у него не пошло. С этими их дер-ди-дасами и прочими инфинитивами. А дальше всё как-то покатилось. Сначала жена нашла работу. И скоро сказала: «Ухожу я от тебя». Ну, Турсуну же пофигу. Он ей ответил: «Уходи». И она ушла к настоящему, местному немцу. Своему шефу. И сразу от него родила то ли сына, то ли дочку. И Турсун остался совсем один на пособии. Почти без языка и почти без денег. И стал, как все нормальные люди в таком положении, бухать, даром что религия ему это запрещала. Бухать и со скуки смотреть телевизор. На понятном ему русском языке. И так двадцать лет. Бухать и смотреть.
Теперь, набухавшись и насмотревшись, он открывает бутылку пива, купленную в «Лидле» за тридцать центов, выходит из дому и ждёт, пока Изя из соседнего дома приедет с работы. Изю Турсун не любит. Во-первых, потому что их, Изь этих, никто не любит, а во-вторых, потому что родом он из вражеского города-героя Киева.
Изя приезжает вечером, выходит из своего скромного «Мерседеса» С-класса, и Турсун ему говорит:
— Мы вас кормили, поили, от НАТО вас защищали как братьев, а вы блядь, суки, падлы!
Изя улыбается и медленно проходит в свой подъезд. Всё-таки сильно он на работе устаёт.
А Турсун потрясает ему вслед пустой пластиковой бутылкой, сморкается, зажав одну ноздрю, в пол и куда-то, в неизвестном направлении, убредает.
2019
Что делает любовь
Они познакомились банально. В интернете. На сайте знакомств с серьёзными намерениями. Он не говорил по-русски, она — по-немецки, по-английски и вообще. Но они всё равно познакомились. И полюбили друг друга до гроба. Пусть виртуально, зато безумно.
Он слетал к ней в Россию, она приехала к нему в Германию. Они путешествовали по стране и миру. Гуляли по городу. Целовались. И говорили, говорили, говорили. Через гугл-переводчик. Это очень, очень удобно.
Он познакомил её с детьми и с бывшей женой. И она им через гугл-переводчик понравилась.
Она рассказала ему о сыне, который где-то учится, а о муже рассказывать не стала. Может, его и не было никогда. Мужа.
Потом она уехала. Попрощаться с любимой Родиной и привести свои дела в порядок. Попрощалась, привела и снова приехала. И они искренне, при небольшом скоплении народа, поженились. После чего стали жить-поживать, добра наживать, разводиться и делить имущество.
Правда, у неё имущества не оказалось, поэтому делили его. Что значительно облегчало задачу.
2016
ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ
Иждивение
И в свои восемьдесят лет, и позже Митя Иванов ел яичницу из десяти яиц. И любил, чтобы она в сале плавала. «Иначе это не яичница, а фикция», — говорил Митя. Жена его, Иванова Лиза, и сама бы такую яичницу ела, но она не могла. Нельзя ей было как по болезни, так и по национальному признаку. Поэтому она говорила Мите, что есть столько яиц и столько свиного сала вредно для его пожилого возраста. Хотя когда Митя не видел, она тоже могла кусочек отрезать и тайно его сжевать. Если сало было с прожилками. Митя об этом, конечно, знал. Поэтому слушал поучения Ивановой невнимательно. Тем более что ни сало, ни яйца они из своей скудной пенсии не покупали. Их привозила из села Митина дочь.
Вернее как дочь… Если строго судить, дочерью она ему не была и не являлась. Она была дочерью его первой жены. Ныне, слава богу, покойной. Митя же всю войну в армии прослужил. В нечеловеческих погодных условиях охранял изменников родины и врагов народа. А когда домой из Мордовии вернулся в конце уже сорок пятого года, выяснилось, что у жены его есть дочь. Которой раньше, при нём, и близко не было. И все соседи говорили ему по секрету, что дочь эта рождена от немца. На него и похожа.
Митя некоторое время с женой, конечно, пожил, соскучившись по женскому полу и его прелестям. Простил ей вынужденно дочь эту случайную с немцем заодно. Но в конце концов, лет, наверно, через десять, всё-таки ушёл. Не мог он на чужого ребёнка ежедневно смотреть. Как он растёт наблюдать и прочее. Ну не мог. А когда выпьет, убить хотелось ему и дочь, и жену, и вообще всех без разбору. Поэтому жену он время от времени и бил. В нетрезвом виде. Придёт, говорит: «Я, значит, родину охранял, а ты тут с врагами»? И понеслось. Так что в конце концов нашёл он себе в областном центре Иванову и женился на ней. Ивановой она, ясное дело, стала после свадьбы, которой у них, правда, не было. А до неё она носила фамилию Гольдберг. Что Митю почему-то не смущало. Наверно, он в духе интернационализма воспитывался, и в духе борьбы за дружбу народов. Главное для него было, что у неё детей не было.
То есть раньше у неё было двое детей. От первого брака. Но один утонул в речке ещё до войны, а другой, младший, умер от голода и дифтерии в эвакуации. У неё на руках. Ко всему этому муж Ивановой, Сёма Гольдберг, с войны так и не вернулся. Героически погиб в боях, о чём командование сообщило ей письменно. И значит, ничто не мешало Мите жениться на Ивановой. Она ничего так была на вид — глазастая. Несмотря на потерю всей своей семьи и работу в кочегарке. Но что кочегарка — это плохо, только со стороны кажется. Иванова считала наоборот, что кочегарка — это хорошо. Во-первых, там молоко давали каждый день. Бесплатно. Во-вторых, профсоюзные путёвки в профилакторий завода ГШО, где можно было обильно питаться, а в-третьих, квартиру ей завод выделил именно потому, что она в кочегарке трудилась, и на пенсию Иванова ушла в сорок пять лет. Работала бы эта кочегарка на газу, вообще был бы в ней курорт. А на угле, конечно, тяжеловато там было. И пыльно. Может, от пыли этой и тяжести и была Иванова такая вредная. Но к вредности её Митя со временем притерпелся. Даже к штучкам её еврейским привык. Вроде того, что скажет она Мите бывало: «Не буду я борщ со сметаной. Он мясной. Некошерно». Митя ей: «А я буду».
Возьмёт эту сметану, а она прокисшая. И чего б не сказать просто, мол, прокисла сметана? Этого он не понимал. Не понимал, но прощал Ивановой её слабости, вредности и национальные особенности. Всё равно у него никого, кроме неё не было. Детей у них не получилось. Жена первая умерла. Дочка её выросла и замуж вышла в село. Ну, и всё.
Сейчас, правда, с дочкой они отношения кое-какие наладили. Благодаря, кстати, Ивановой. Она их двухкомнатную хрущёвку — ту, что завод ей за работу в кочегарке выделил — дочке Митиной завещала, когда приватизацию разрешили. В обмен на обещание снабжать их сельскими продуктами до самой смерти. После чего похоронить. Иванова могла бы и не ей квартиру завещать на каких-нибудь более выгодных условиях. Но её единственный двоюродный племянник Марик жил в Ташкенте, откуда при первой же возможности уехал в город Штутгарт. И помогал оттуда только деньгами и только изредка. А дочка Митина подумала и решила, что оно того стоит. Мите было хорошо за восемьдесят, Ивановой — под. Ну сколько они ещё протянут? А квартира в областном городе — это красиво. У дочки Митиной сын тогда как раз жениться собрался. Конечно, она стала их снабжать. Не круглый год — весной и осенью из её села нельзя было на трассу выехать даже трактором, не то что «Жигулями». А летом и зимой снабжала, как часы. Привозила раз в месяц, а то и два, полные сумки всякого разного съестного. В том числе сала и яиц. Картошку на зиму тоже привозила, лук-чеснок. Иванова ворчала, что привозит она мало и редко, и жаловалась на неё всем соседям, но ей лишь бы пожаловаться. Да и понять её можно. Если очень захотеть. Ей всегда казалось, что еды мало, что она голодной останется. Потому что наголодалась она в эвакуации так, что не дай бог. Кожа на теле трескалась. И с тех пор больше всего на свете боялась Иванова голода. Всё время думая о еде. Даже когда была сыта, о ней думала. Всё остальное занимало её гораздо меньше. Или не занимало вообще. Митя ей говорил: «Ты жадная», — и вымакивал сало ломтями белого хлеба. До тех пор, пока сковорода не начинала блестеть.
А Иванова ему возражала: «Я не жадная, я голод помню. И о тебе-дураке забочусь». Митя её не слушал и продолжал своё. Потому что он так привык. Когда служил и работал, ему калории нужны были позарез, а на пенсии калории, конечно, ни к чему, но привычка много есть осталась. При этом он не толстел. В отличие от Ивановой. Которая в дверь уже входила без зазора. Даже боком.
И жили они так, на иждивении, довольно долго. Дочка Митина уже думала, что прогадала она с этой квартирой и что Митя с Ивановой ещё её переживут. Но они не пережили. Они, как говорится, жили-жили, а потом померли.
Сначала, значит, у Ивановой случился инсульт, и она после него выжила. И даже начала по квартире передвигаться. А потом и у Мити то же самое. Но он сразу умер, безотлагательно. Упал на пол и умер. Иванова стала стенать и звать соседей. Соседи пришли, вызвали телеграммой Митину дочку. Она приехала на «Жигулях» своих всей семьей — с мужем, сыном и женой сына. На крышу машины муж багажник установил дополнительный. Решётку такую специальную, для того, чтоб на базар ездить. И к ней гроб верёвками приторочил. С красивым крестом из чёрного крепа через всю крышку. Погрузили они Митю в этот гроб, крышкой накрыли и водрузили на багажник общими усилиями. Соседи за их действиями наблюдали, но помощи не оказывали. Только сказали им вслед «счастливого пути». И уехал Митя в село, где похороны обходились значительно дешевле городских. А если учесть, что гроб этот муж дочери своими руками изготовил, будучи плотником, так и ещё дешевле.
Ну, а буквально через неделю и сама Иванова утром не проснулась. Видно, второй инсульт её настиг от переживаний. Во сне.
Патронажная сестра из еврейского фонда помощи обед ей принесла, дверь отперла, видит — нет больше Ивановой. Она опять дочке Митиной — телеграмму. И всё повторилось. Точно так же, как с Митей. Даже гроб они привезли точно такой же. С таким же крестом. И точно так же, на крыше «Жигулей», увезли Иванову в своё село, чтобы недорого похоронить её рядом с Митей на сельском кладбище.
Там они, наверное, и лежат.
2018
Которые евреи
Он появлялся в деревне аккуратно, когда в ней кто-то умирал. Не опаздывая. Все деревни в округе и сами были умирающими. Живое из них давно разбежалось. А где жил он сам, куда уходил, чем питался — никто не знал. Да имени его, и того не знали. Обращались как бог на душу положит. Знали лишь, что когда нужно будет — он придёт. И больше ничего о нём известно не было. Расспрашивать, конечно, пытались, что да как, да на каком основании он к ним приходит. Люди же, особенно старые, они хотят всё знать. Но он от них как-нибудь отшучивался. Говорил:
— Перестану я к вам приходить, так вы и помирать бросите. А это нельзя.
Так что, как у него получалось? Откуда он узнавал? По сей день неясно. Может, нечистая сила какая ему подсказывала. А может, и чистая. Между ними не всегда можно найти различия. Но появлялся, как штык. То там, то здесь. Заходил в нужный дом. Снимал шапку тем движением, о каком раньше говорили «ломал». Если видел, что угадал вовремя, брал с тележки инвентарь и шёл на погост. Копать. В этих деревнях выполнить такую работу никто не мог. Старухи там жили и редкие старики. Очень преклонного возраста. Они и картошку-то не могли выкопать, не то что…
Если являлся он чуть раньше — что тоже случалось, — садился на лавку и молча ждал. Ждать всегда оставалось недолго. А бывало, появлялся, когда все живы и умирать никто не собирается. Но это его не смущало. Что не собирается. Раз пришёл, значит, не зря и без смертельного исхода не обойтись.
Не однажды уже он оказывался последним, кто покидал деревню навсегда. Хоронил умершего и покидал. И после них, а вернее, после него никого в живых там не оставалось. И принимал он это окончание жизни привычно. То есть как будто не было в этом окончании ничего особенного. Хотя умерший и оставался не помянутым ни в девять дней, ни в сорок, и вообще, никогда и никем.
Ходил он всегда с рюкзаком. Перед собой толкал тележку. Лёгкую, на больших колесах со спицами. Вернее, это даже не тележка была, а такая платформа плоская. К ней сумка приторочена. Кстати, не простая сумка, а для гольфа — чтоб клюшки в ней по полю носить. Возможно, он знал в своей жизни и другие, лучшие времена. Ну, если по этой сумке судить. Но, может быть, сумка к его жизни отношения не имела и попала к нему как-нибудь случайно. Сейчас в ней его инструменты хранились. Лопата. Острая, как бритва. Ломик короткий, но тяжёлый. Кувалдочка. А также коловорот раскладной из блестящей стали. Он им в мёрзлой или твёрдой земле скважины проделывал, как сверлом — для облегчения ручной копки. И ещё множество каких-то предметов и вещей на его тележке лежало, резиновыми жгутами прикрученных. И сверху брезентом всё затянуто. Или это не брезент был, а спальник. В общем, неважно. Важно, что на этой же тележке он и усопших отвозил. К месту упокоения. Всё с неё снимал, оставлял в избе покойного, а перед уходом опять как было укладывал и закреплял.
Если ему предлагали переночевать — оставался и ночевал. Если не предлагали — прощался и уходил. Хоть летом, хоть зимой. У него спрашивали:
— А где ты в морозы ночуешь?
Отвечал:
— Места надо знать.
Кстати, пил только на помин души и когда давали поесть. Сто грамм, не больше. Плату за услуги брал деньгами. Говорил: «Инструмент хороший денег стоит, без инструмента я никто. А где их брать, деньги? Кроме как у вас. Тем более они вам без надобности».
И ещё приходя, тормошил он стариков и старух, чтобы доски себе заготавливали на случай надобности заранее. Гроб, говорил, я сколочу, мне не трудно. И обстругаю, если надо, рубанок есть. Но доски, извините — доски ваши.
Придя как-то в деревню Овражино по своим обычным делам, он обнаружил странность, какой в радиусе сто километров давным-давно не случалось: крайний дом деревни ожил. Года четыре пустым стоял. Не меньше. И вдруг — грядка, куры по двору бродят. Коза где-то бекает и мекает.
Так как пришёл он чуть раньше срока, заглянул к старухе Леонтьевне.
— Что за люди? — спросил. — Откуда?
— Да приехали, — сказала Леонтьевна, — на полуторке. Кур с собой привезли, козу. В огороде что-то посадили. Теперь ковыряются в нём. Люди как люди, в общем. Плохого не скажу. Ходят, правда, слухи, что евреи. От нашей русской власти убежали, чтобы умереть спокойно, и следы замести.
— От нашей власти у нас не убежишь, — сказал он. — Вон вам муку и пенсию бывший участковый привозит. Как ты от него убежишь? Хоть он и бывший.
Леонтьевна спорить не стала:
— Может, и врут слухи, — сказала. — Но так их у нас прозвали. И в Покровку, в церковь, на Пасху они не ходили. Этот факт остаётся фактом. И главное, с кошкой приехали. Понимаешь? С кошкой!
Другой, может, и удивился бы, что Леонтьевна так на кошку напирает, но он её хорошо понимал. Кошек в этих местах нет уже чёрт знает сколько времени. То ли ушли от голода туда, где люди всё-таки ещё живут, а не только доживают до смерти. То ли от заражения местности вымерли. Здесь же недалеко в прошлом веке бомбу взорвали атомную. С целью на людях испытать. С тех пор, говорят, заражение и осталось. Хотя кто его проверял? Но то, что здесь не только кошки, но и мыши далеко не в каждой избе водятся — правда.
Как-то Ивашкиным сын их — тогда он ещё не окончательно спился — завёз своего кота с дефектом. Из города. Кот в постель ему гадил. Сын Ивашкин думал, пусть на природе гуляет и гадит, куда душе угодно. Но кот исчез сразу после отъезда сына. А последний кот в Овражино был как раз у Леонтьевны. Его соседка, ныне, конечно, покойная, граблями убила. Кот её цыплёнка задавил и поволок к забору. Им же подрытому. А она его граблями…
А тут, значит, пришельцы непонятные. И мало того, что с козой собственной, так ещё и с кошкой. Из-за кошки, наверно, их евреями и прозвали. Понять людей можно.
— Да, кошка у них смешная, — закончила рассказ Леонтьевна. — Зовут Мушкой. По хозяйству им помогает. Кур в курятник загнать. Козу тоже. В сарай. Вечером она к деду на плечо запрыгивает. С земли. А когда они с бабкой сидят во дворе, лежит у них на коленях. Или у него, или у неё. И они с ней целуются. Тьфу.
Со времени этого разговора прошло лет пять. Или даже шесть. Уже и Леонтьевна помереть успела, да и не она одна.
Он зашёл в Овражино под вечер, и ему тут же попалась на пути агрономша когдатошная:
— Чего это ты, — говорит, — приволокся? У нас, слава богу, все живы-здоровы. Или громом кого-то убьёт? Гроза вон собирается.
— Может, и убьёт, — сказал он. — А может, и не убьёт. Откуда мне знать.
Агрономша говорит:
— Так ты к кому?
А он:
— Ты радуйся, что не к тебе, иди себе, — и мимо свою тележку покатил. Через всю деревню насквозь. До самого первого дома. До того дома, где пришлые жильцы жили. Которые евреи.
Вошёл. Видит, сидят старик со старухой и натурально плачут. А на столе одеяло и кошка их в нём лежит. На боку. Лежит и не дышит.
— Что у вас тут? — спросил.
— Вот, — старик говорит, — может, вы знаете, как в деревнях хоронят умерших кошек?
— Да никак не хоронят, — он говорит. — Уходят они перед смертью из дому, и всё. А куда, им от природы виднее.
— А наша не ушла, — говорит старик. — Не деревенская она. Да и куда же она от нас уйдёт? Она двадцать лет с нами прожила, с рождения. Где мы, там и она. Как мы, так и она.
Какое-то время ничего не говорили. Молчали. Потом старик глаза ладонями вытер и спрашивает — неуверенно так:
— А вы не могли бы её это, предать земле, по-людски? В огороде нам бы не хотелось.
Он подумал для порядка и говорит:
— Я-то мог бы. От меня не убудет.
В общем, лёг он у евреев этих так называемых на лавку, отдохнуть с дороги. А в два часа ночи взял одеяло с кошкой и тихо вышел. И вернулся часа через полтора. Сказал:
— Я ей роскошную могилу выкопал. Под ёлкой. Утром солнце у неё будет, вечером — тень. Красота. Даром что не на кладбище. В общем, вы не сомневайтесь.
— Спасибо вам, — сказал старик. — Мы не сомневаемся. — И спросил: — Сколько с нас?
Он сказал, сколько, и сказал:
— Пойдём, покажу, где?
Старик оделся, и они сходили на опушку.
— Запомнили место?
— Запомнил.
Вернувшись, сели за стол, старухой накрытый.
— Помянем Мушку, — сказала старуха. — Мы её любили. И Мушка нас тоже. Любила.
Она опять заплакала, а он приподнял стопку и сказал:
— Земля ей пухом. Только вы это, — говорит, — никому не рассказывайте. А я скажу, что ошибся. Впервые в жизни. Что к вам, скажу, приходил, а вы помирать передумали.
— И я вас хотел попросить, — сказал старик. — О том же.
Он выпил, поставил стопку и говорит:
— Я — могила. — И: — Я ж, — говорит, — понимаю. Они, если узнают, что вы кошку по-человечески похоронили, да за деньги, да потом ещё поминки ей устроили и плакали — засмеют. А то и подожгут на хрен.
— Но они же увидят, что Мушки больше нет.
— Скажете, ушла. Они поверят. Они во что угодно поверят. В любую херню, извините. Только не в правду.
…После этих кошкиных поминок собрал он свои вещички и ушёл в сторону леса. И больше в деревне Овражино не появлялся. Может быть, повода ещё не было у него появиться, может, просто стороной её обходил, а может, и сам от чего-нибудь умер.
2021
Ужасное недоразумение,
или
Жизнь и судьба Пети Козлищенко
Чёрт, и занесло же Петю Козлищенко в троллейбус именно 11 июня 1967 года. Причём в хорошем донельзя настроении. В солнечном, можно сказать, настроении занесло Петю в троллейбус номер четыре. В солнечном и во всех отношениях воскресном. А чего, причины для настроения у него имелись. Во-первых, его в сборную команду республики включили, а во-вторых, у него был день рождения. И не рядовой какой-нибудь день рождения, а про который в песне народом поётся, мол, в жизни раз бывает восемнадцать лет. Как будто семнадцать или девятнадцать лет бывают в жизни по три раза.
Ну да не в этом суть, а суть в том, что не только роль личности в истории имеет большое основополагающее значение, но и роль истории в судьбе личности тоже его прекрасно имеет. К сожалению.
И вот входит, значит, Петя в синий троллейбус, с улыбкой через всё лицо — а там, за поворотом, его ничего не подозревающую личность уже мировая история поджидает. Во всеоружии. Потому что как раз вчера, где-то на другом конце глобуса, израильские захватчики подло, исподтишка, за шесть рабочих дней, разгромили превосходящие силы мирных арабских армий. Которые, стоя на страже, были истинными друзьями всего прогрессивного человечества. И в среде сознательных советских граждан как самых ярких представителей этого пресловутого человечества настроения взыграли соответствующие историческому моменту.
И тут, значит, Петя сдуру вошёл в троллейбус. И занял стоячее место недалеко от кабины водителя. Для того чтобы стоять, ехать и внутренне улыбаться. А рога у троллейбуса на полном ходу возьми, да и соскочи в разные стороны. Что, конечно, привело к резкому аварийному торможению.
И какой-то, значит, мужик, под воздействием безжалостной инерционной силы, пролетел через весь салон и со всего маху врезался телом в стоящего, как скала, Петю. А врезавшись, мужик сполз к Петиным ногам. Сполз, но вскочил и недвусмысленно схватил Петю за грудки. Крупный такой мужик, видно, слесарь-сборщик с завода «Богатырь». И как заорёт этот богатырь: «Ах ты, жидовская морда! Агрессор недорезанный»!
Петя очень его словам удивился и подумал про себя: «Кто, я морда? Интересно». И если б мужик на этом кричать прекратил, то так ничего и не поняв, Петя бы из троллейбуса вышел. На ранее запланированной остановке. Но мужик оказался нервным. Может, из-за новостей с международного фронта, а может, и с вульгарного похмелья. И он вместо того, чтоб прекратить, наоборот, дополнительно наорал на Петю, мол, чего стал, как пень в проходе, и всё такое, в том же непримиримом духе времени. А потом ещё и оскорбил его последними словами самого великого и самого могучего языка на свете. Такими словами оскорбил, что у Пети волосы на лоб полезли. К тому же сборщик угрожал Пете окончательной победой над врагом рода человеческого в самые ближайшие дни.
Петя в ответ предложил оппоненту разойтись по-доброму: «Вы меня, — говорит, — пустите. Если б не я, вы бы сквозь лобовое стекло на проезжую часть выпали». А тот — ни в какую. Орёт. И слюной брызжет. Прямо Пете в лицо с отвратительно ближней дистанции.
Ну, эти злобные брызги и ор Петя ещё как-то в мирных целях терпел, но когда мужик попробовал пустить в ход оружие пролетариата кулак, Петя чисто автоматически не сдержался. Он ушёл от кулака с уклоном и вложился правым боковым в подбородок. Мужик, естественно, осел, лёг и стал похож на свой собственный бездыханный труп. Потому что Петя Козлищенко славился в республике двумя вещами: нарочито уродливой, совершенно не соответствующей его моральному облику фамилией и боковым ударом справа. При весе шестьдесят килограммов и росте метр семьдесят два Петя сажал на пол тяжеловесов. Во всяком случае, на тренировках. Поэтому тренер общества «Трудовые резервы» Виктор Иванович Кочерга постоянно Петю окорачивал, не позволяя ему жить и работать в полную силу его недюжинного таланта. «Не вкладывайся, — неустанно повторял Виктор Иванович, — не вкладывайся». Берёг он своих ребят. А после Петиного вложения спортсмен мог и на год из строя выйти. Так что настоящие удары Петя наносил только по мешку. Ну, и по противникам на соревнованиях, отправляя их всех в заслуженные нокауты.
Но в троллейбусе же этого не знали! И, увидев помертвевшего мужчину пролетарского телосложения, стали паниковать, сердиться и кричать «жиды наших заживо убивают». А человек пять, самых сознательных и политически грамотных, кинулись на Петю с претензиями. Чтобы устроить ему на общественных началах справедливый суд Линча. И Петя вынужден был констатировать, что троллейбус не на его стороне, хотя при чём тут жиды, не понял всё равно.
Нет, Петя, конечно, слышал по радио, что ястребы оголтелой израильской военщины вероломно напали на три, что ли, мирных арабских страны, население которых составляют старики, женщины и дети. Нарушив тем самым их сон и покой. Но значения данному вопиющему факту не придал. Поскольку его это не касалось. Где Израиль с его евреями, а где Петя Козлищенко. А тут, в троллейбусе, значит, коснулось. Хотя и по ужасному недоразумению. И Пете пришлось к двоим из активистов применить всё тот же правый боковой. Он не хотел. Но ему пришлось. И активисты тут же легли на богатыря аккуратным штабелем. А остальные Петю линчевать передумали, рассосавшись в троллейбусной сутолоке. Сам же Петя жопой почувствовал и ощутил, что место происшествия надо срочно покидать. И вышел через переднюю дверь. Любезно открытую водителем для себя — чтобы рога троллейбусу подправить и продолжать движение по маршруту. Вот этой дверью Петя и воспользовался. Но опоздал.
Какая-то баба в салоне, может, родственница потерпевших или их супруга, начала вдруг истерически через окно стенать. Взывая к милиции. И милиция, как это ни печально, тут же, откуда ни возьмись, взялась. И Петю замела в своё отделение. А в отделении не какой-нибудь лейтенантик — майор сидит, чай пьёт собственной персоной. И:
— Так и запишем, — говорит. — Грубое нарушение правопорядка в общественно-полезном месте, а именно в троллейбусе маршрута номер четыре. На каком основании наносили пассажирам тяжкие телесные повреждения, гражданин?..
— Козлищенко.
— Козлищенко? — майор заржал. — Что, так и писать?
На эту грубость Петя не обиделся. К насмешкам над своей фамилией он привык.
— Так на каком?
— Пассажиры меня матерно обзывали. Жидовской мордой и этим, агрессором.
— А вы разве жид будете? Ну, то есть я хотел сказать, лицо еврейской национальности?
— Козлищенко я, Петя.
— Тогда чего ж ты их пиздил? Петя.
— Так ведь напали. И оскорбляли грязно перед людьми.
— Как именно оскорбляли?
— Жидовской мордой.
— Но ты ж, твою мать, не она. Не лицо еврейской национальности. Чего ж ты неадекватно реагировал на явно ошибочный инцидент?
— Да я же говорю. Оклеветали и напали. Как я мог реагировать на клевету с нападением, когда их было полтроллейбуса? Я мог только защищаться. А то б они меня ошибочно убили.
Тут у майора на столе телефон зазвонил. Майор с интересом послушал. Положил трубку. И говорит:
— Ни хрена себе сицилианская защита. У всех троих сотрясение мозгов. Тяжёлой степени. У двоих перелом челюсти. У одного, правда, только вывих. Ты что их, кувалдой бил?
— Рукой я их бил. Но правой.
— Честно рукой?
Майор подошёл к Пете, пощупал его правый бицепс, осмотрел кулак. Вернулся. Достал из сейфа штатное расписание.
— Слушай, а не хочешь к нам? На работу. Мы тебя к грамоте представим. И от армии отмажем. У нас тут тоже служба родине и опасна, и трудна. Но это на первый взгляд. А так-то жить можно.
— Не могу я. Я техникум заканчиваю художественно-полиграфический и в обществе «Трудовые резервы» с детства состою. А у вас тут одно «Динамо».
— Не хочешь «Динамо», — майор говорит, — будет тебе осенью «СКА» Заполярного военного округа. Если, конечно, не посадят.
— За что?
— За насилие над прогрессивными советскими гражданами с нанесением умышленного вреда здоровью. Совершённое в группе.
— В какой группе? Я ж один был.
— Но их-то было трое минимум. А троих уголовный кодекс трактует однозначно как группу.
Короче, припёр майор Петю к стенке доводами, и ничего ему не оставалось, как согласиться на его гнусное предложение. Техникум Пете, правда, окончить разрешили — им, в милиции, люди с каким-нибудь образованием остро требовались. Для отчётности. Да и стенгазету райотдельскую должен был кто-то рисовать ежегодно.
За сборную Петя тоже успешно выступал и за «Динамо» победоносно дрался. Чего Виктор Иванович Кочерга так ему и не простил. И помнил его измену до самой своей трагической гибели в ДТП.
А когда с большим спортом Петя по возрасту и семейным обстоятельствам завязал, превратился он сразу, как по мановению волшебной палочки, в самого обыкновенного, ничем не примечательного мента. Даже не в инспектора ГАИ, к тому же пьющего. И детей его во дворе легавыми дразнили. До тех пор дразнили, пока они не закончили школу милиции и не получили в пользование личное стрелковое оружие.
Грустная, в общем, история. Особенно если учесть, к чему она привела, с одной стороны, арабский мир в целом, а с другой, Петю Козлищенко в частности. Он же кем являлся до троллейбуса этого злополучного? Являлся он чистым душой советским юношей комсомольского возраста, перед которым были открыты все двери, все дороги и все пути. А кем стал в своём скором будущем? Ментом, как говорится, поганым он стал. И страшным антисемитом. Настолько страшным, что даже сослуживцы его сильных чувств пугались и разделяли их не до конца. Но по-человечески Петю понимали и ему сочувствовали. Виноват-то во всех Петиных несчастьях был, как ни крути, Израиль с его новейшей историей или, проще говоря, евреи. Евреи, они, как известно, не только в этом виноваты, но в этом-то уж несомненно.
2012
Звезда и точка
На доме, где живёт старый Натансон, кто-то нарисовал звезду. Большую и шестиконечную. И точку рядом поставил.
Натансон вышел утром в булочную и рисунок увидел. И, конечно, не обрадовался. Как он мог обрадоваться, если и дед его, и бабка, и несколько их родственников эти звёзды на себе носили. Правда, жёлтые, и недолго. Может, с месяц. Десятого октября они все уже лежали в овраге. В районе днепропетровского ботсада. А сам Натансон, можно сказать, от одного-единственного антисемита сюда сбежал с женой Раей. Был у него такой сосед в Красково Московской области. И совсем не для того сбежал, чтобы ему на доме такие звёзды рисовали. С точками.
Что эта звезда должна была означать, Натансон точно не знал. Но он догадывался, что она могла означать. Этого было достаточно. И особенно ему не нравилась точка. Намекавшая на окончательное решение известного вопроса. Нет, возможно, Натансону это только казалось. Что точка намекает. Возможно, босяк-художник просто так её поставил, чисто автоматически по привычке, без всяких прозрачных намёков. Тем не менее, всё это очень Натансона расстроило, и он купил не те булочки, какие нужно. Чего даже не заметил. Потому что мысли его были всецело заняты звездой и точкой.
— Что ты принёс, несчастье? — сказала Натансону Рая. — Это же рыжие булочки. Мы их не едим.
Натансон вышел из задумчивости вовне, сказал «ну рыжие» и опять глубоко задумался.
— Лучше бы ты смотрел глазами, когда покупки делаешь, вместо думать чёрт знает о чём.
На это Натансон сказал:
— Пока тебя не устраивают булочки, на доме намалевали шестиконечную звезду. С точкой.
— Какую ещё звезду? — не поняла Рая.
— Чёрную, — сказал Натансон. — Пока чёрную.
Чай пили молча. После чая Натансон сказал:
— Надо писать наверх.
— Куда? — испугалась Рая.
— Бургомистру. — Рая схватилась за голову. — А копии — в полицию, в газету и Ангеле Меркель.
— Совсем рехнулся, — сказала Рая. На что Натансон отвечать не стал. Не счёл нужным.
Он ушёл в свою комнату, обложился словарями и учебниками немецкого и стал писать черновик. К обеду текст был готов. Начинался он: «Сим ставлю Вас в известность», а заканчивался, как тут принято: «С дружеским приветом». Оставалось напечатать его на компьютере и отправить по адресам.
— Как думаешь, — спросил Натансон, — отправлять мейлом или per Post?
— Мейлом дешевле, — сказала Рая.
— А per Post надёжнее, — сказал Натансон. — Давай конверты.
Он включил свой «Пентиум», привезённый ещё с родины в две тысячи первом году, и аккуратно, указательными пальцами, набрал текст письма. Дважды проверил ошибки и распечатал на принтере четыре экземпляра. Надписал конверты, вложил в каждый по письму, заклеил. Ещё раз хорошо подумал и отправил текст мейлом тоже. На всякий случай для гарантии. А после обеда сходил на угол и опустил конверты в почтовый ящик. И сразу же стал ждать ответа.
Все четыре адресата Натансону ответили. Официально. Мол, сообщаем, что письмо ваше успешно получено и будет обработано так быстро, как только возможно. С дружеским приветом. Кстати, ответили ему как почтой, таки мейлом. Тоже, видимо, на всякий случай для страховки. Жаль «быстро» — понятие растяжимое.
И выходил, значит, Натансон каждое утро из своего дома на улицу имени Барбароссы, выходил и — видел звезду. И точку. Видел, но терпел. Потому что ему же практически обещали принять срочные меры. И он верил, что раз обещали принять, значит, примут и, может быть, прямо сейчас их уже принимают. Хотя «обработать письмо» и «принять меры» — вещи разные. Но Натансону хотелось думать, что это одно и то же. Тем более, местная городская газета напечатала фотографию звезды и под ней философский вопрос: «Что бы это значило?» Чем внушила Натансону дополнительные надежды, а надежды умирают последними. Хотя и они умирают. В общем, кончилось у Натансона терпение быстро. Кончилось, можно сказать, не начавшись. И он решил бороться. Несмотря на свои скромные силы и средства.
В строительном магазине «ТООМ» купил Натансон банку растворителя и малярную кисть. И под покровом ближайшей ночи звезду с фасада удалил. Оставив на её месте сырое расплывчатое пятно.
— Пятно я потом закрашу, — сказал себе Натансон. — Краску подходящую подберу и закрашу. А пока пусть так.
Спалось в эту ночь Натансону как никогда. Крепко спалось. Он даже не храпел. Отчего Рая всерьёз беспокоилась за его жизнь. И утром в булочную шёл Натансон с чувством выполненного ночью долга и в приподнятом донельзя настроении. Которое исчезло, стоило ему выйти из подъезда.
Звезда была на месте. И точка после неё стояла ещё более жирная, чем раньше.
При виде этой точки у Натансона начали подрагивать руки. И губы тоже начали подрагивать. И он вернулся домой без булочек.
— Как же так? — беззвучно шептал Натансон. — И главное — когда? Когда успели?
Рая ничего не сказала Натансону. Сходила за булочками сама. А он завтракать не стал. И обедал как-то невнимательно. Всё опрокидывая и роняя. А ночью, естественно, он снова вышел на борьбу со звездой. И снова её удалил. Но утром всё повторилось. То ли звезда была заколдованной, и сама проступала сквозь краску, то ли неизвестно.
И Натансон сказал жене Рае:
— Пойду, пройдусь. Чего-то мне душно тут, взаперти.
Он вышел и пошёл без цели — шаркая и глядя по сторонам. И обнаружил такие же звёзды на некоторых других домах. «Может, это они метят места, где мы живём?» — подумал Натансон. Но на телефонном распределителе и на почтовом ящике, и на афишной тумбе, поверх какого-то знаменитого лица, тоже были нарисованы звёзды. И точки везде проставлены.
Натансон потоптался возле тумбы, вгляделся в зачёркнутое лицо гитариста. Судя по фамилии, Бонамасса вряд ли был евреем. «Домой. Надо идти домой».
Дома Натансон схватил растворитель, кисть и тряпку, устранил с пути Раю и убежал. Чтобы бороться со звёздами до победы, не на жизнь, а на смерть. И наплевать, что на глазах у всех. В конце концов, дело же хорошее, а не плохое. Поэтому-то никому и в голову не пришло, что Натансон стирает звёзды по собственной инициативе. На него просто не обращали внимания. Работает человек — и слава богу. Наводит установленный порядок. Правда, на четвёртой или пятой звезде к Натансону подошла старушка:
— Вас, — спросила, — муниципалитет прислал?
— Да, — соврал Натансон от неожиданности.
— Сотрите тогда и с нашего дома.
Старушка отвела Натансона за угол, и он увидел на цоколе размашистое слово: «Хуй». И обрадовался ему, как родному. Хуй — это всё-таки не звезда.
Только радость Натансона продолжалась недолго. Потому что в тот же буквально миг он увидел и звезду. На автомобиле типа «пирожок». Прямо на его будке. Причём «пирожок» не стоял, он ехал. Медленно, как предписывал знак, и всё-таки. «На автомобиле-то что это может означать? Автомобиль тут при чём?» Натансон бросил старушку на произвол судьбы и двинулся следом за «пирожком». Потом побежал за ним трусцой. Слава богу, «пирожок» остановился на светофоре. Натансон догнал его и стал стучаться в стекло.
— У вас звезда, — кричал он водителю, жестикулируя, — у вас на будке звезда.
Водитель пугался странных его жестов и ничего не понимал. Немцы вообще не очень хорошо понимали Натансона. А тут ещё стекло. Натансон бился в него, как муха, пока светофор не вспыхнул зелёным. «Пирожок» со звездой тихо тронулся. А Натансон остался стоять на проезжей части с банкой в руках, и его бережно, чтобы не задеть, объезжали машины. Как слева, так и справа.
2016
Коржики
— А давайте я вам фотографии покажу, — говорит тётя Маня, как только мы с женой входим.
Она берёт потёртый альбом. Фотографии в нём вклеены намертво. Мы садимся к столу. Она приносит с кухни коржики. Раньше и чай обязательно приносила. Теперь забывает.
— Тётя Маня, — говорю я, — не нужно коржиков.
— Сегодняшние, — говорит тётя Маня и открывает альбом: — Это мои родители. В молодости.
Коржики она печёт постоянно. Поэтому стены в кухне покрыты маслянистой плёнкой. И сама она тоже ею покрыта: лицо, руки, одежда. Коржики лежат в вазочках, хлебницах, корзинках. На этажерке, на столе, на комоде.
Живёт тётя Маня одна. Из дому не выходит и гостей не принимает. Зачем ей столько коржиков, не знает никто. А она не объясняет. Печёт их, и всё. Как фабрика-кухня. То есть что-то, возможно, знает врачиха. Она говорит: «Возрастное отклонение это, — и говорит: — Не противоречьте. Пусть печёт. Вам что, жалко»?
Нам не жалко. Мы приносим муку, постное масло, яйца и сахар. А соли и соды у тёти Мани ещё надолго хватит. Солью она сама запаслась при Горбачёве и содой тоже. Да, ещё маргарин мы приносим. Чтобы у неё всегда было из чего печь коржики. Иначе тётя Маня начнёт нервничать. И врачиха опять будет настаивать на стационаре. С красивым названием «Гериатрия». А мы один раз её уже послушались. И оказалась эта «Гериатрия» обычной психушкой для стариков и старух. Еле мы тётю Маню оттуда выцарапали. Теперь врачиха, если что, сразу говорит: «Под вашу ответственность». «Под нашу, под нашу», — говорим мы и никуда тётю Маню не отдаём, просто заходим к ней каждый день. То я, то жена, то вместе. Благо, живём в двух шагах. И смотрим фотографии в альбоме. И едим через силу коржики.
Коржики, кстати, у тёти Мани вкусные. Я долго таскал их на работу «к чаю» и жена таскала. Даже на праздники всякие, дни рождения и прочее. Друзей ими угощали при каждом удобном случае принудительно. Но на работе они всем надоели. И у жены, и у меня. И друзьям надоели. Так что куда тётя Маня девает старые, неиспользованные коржики, я не знаю и не спрашиваю. Надеюсь, в мусоропровод. Что ест она сама, тоже неясно. Возможно, те же самые коржики и ест. Во всяком случае, всё, что приносим ей мы, так и сгнивает в холодильнике. И никакие уговоры не помогают. Тётя Маня пропускает их мимо ушей.
А раньше она вкусно умела готовить. Из ничего по тем временам готовила, а всё равно вкусно. Это даже я помню. Из детства. Мало того, когда сын её женился на соседской дочке и перешёл жить к ней, поскольку соседская часть их развалюхи была больше, она протискивалась сквозь дырку в заборе и залезала в окно, чтобы узнать, чем жена кормит её сына. Совала свой нос в кастрюли, пробовала пищу на вкус. Её ловили, стыдили, выкидывали, но она не обращала внимания. Потому что сына нужно было кормить хорошо. Он в детстве туберкулёзом переболел, и зря, что ли, они с мужем его выходили. Всё продали, что не продалось — бросили. И уехали на юг, в деревню. Чтобы жить там и работать. Муж по своей специальности устроился, парикмахером. Правда, в райцентре, за двенадцать километров от места жительства. А она учительницей младших классов. Старших в деревенской школе и не было. И учительницы не было. До их приезда. В деревне завели они козу и кур, и сына спасли. Без всяких антибиотиков. Про них тогда только слухи ходили упорные, мол, творят чудеса. Но взять их простым, обыкновенным людям было негде.
А теперь сын за границей, вернее, за океаном, если, конечно, всё у него хорошо. Тётя Маня рассказывает: «Лет двадцать уже он там. Или тридцать. В семьдесят девятом году он уехал. В ноябре. Я точно помню. Как раз перед Афганистаном». И ещё рассказывает, что он не ради себя уехал, а ради детей и ради их светлого будущего.
А она не поехала. Что бы она там, за границей, делала? Тем более за могилами, кроме неё, ухаживать было некому. Тут же и отца её могила, который сначала без вести на фронте пропал, а потом вернулся. И мужа. Матери могилы нет, но она тоже лежит здесь, в этой земле. В каком-то из оврагов, где людей расстреливали. Её тоже просто так не могла она бросить, хоть и без могилы. Мать ей жизнь спасла. Сначала дала, а потом спасла.
Да, а в живых у тёти Мани никого не осталось. На старости лет. Живые её здесь не удерживали. Я с женой не в счёт. Во-первых, я тогда пацаном ещё был, а во-вторых, седьмая вода на киселе. У мужа её покойного был двоюродный брат. Младший. А я его сын. А жив ли её собственный сын, она не знает. Сначала в их закрытый, военно-промышленный город письма от изменников родины не доходили. А потом оно как-то так сложилось, что вроде бы и можно стало письма получать, а сын ничего ей не написал. Бог знает, почему.
Так она одна и живёт по привычке, с семьдесят девятого года. Потому что муж тёти Манин задолго до отъезда сына умер в расцвете лет. Покончил с собой. Но если бы он не покончил, он бы всё равно умер. От тяжёлой продолжительной болезни. Мне моя мать рассказывала. Он говорил: «Я лучше повешусь, чем такую боль терпеть». Маня ему говорила: «Смертью от боли спастись — хорошая идея». А он: «Смерти всё равно не избежать, а боли — можно». И избежал. Люди потом трепались, что за это у него и внук родился больной. Калекой, можно сказать, родился. Из-за внука сын и уехал за границу, если разобраться. Там за такими больными умеют ухаживать. И жизнь им продлевать умеют. А у нас умеют только укорачивать. Больным, здоровым — всем.
Тётя Маня продолжает листать альбом. Все фотографии мы давно знаем на память. «Это мой папа, — показывает она пальцем. — Он сначала без вести пропал, а потом вернулся. Это я и муж мой — он покончил с собой. Это сын с женой и детьми — они живут за границей».
И здесь я произношу то, ради чего мы сегодня пришли:
— Тёть Мань, — говорю, — я сына твоего нашёл. В Сети, но это неважно. Вернее, внука. Хочешь с ними поговорить?
Тётя Маня не отвечает. Молчит. Потом говорит:
— Это сын мой с детьми. Они за границей живут.- И: — Ешьте, — говорит, — коржики. Не стесняйтесь.
2018
Зачем?
М. К.
Соня сидит на полу посреди комнаты, опершись спиной о диван. И держит в руках книгу. А вспоминает бабушку. Лет пятьдесят назад бабушка тоже сидела так — здесь же. Сидела и молча плакала. Потому что умерла её мама. А Соня, будучи глупым ребёнком, вертелась поблизости и мешала бабушке плакать.
Сейчас плакать вроде не хочется. Только очень тоскливо.
Девяносто лет в этой квартире жили люди. Девяносто. А теперь она наняла маме сиделку, чтобы прилететь из Флориды, раздать вещи и книги кому придётся и продать квартиру — во-первых, деньги нужны, а во-вторых, семьи, которая тут жила, больше нет.
Папа умер на этом самом диване. Больную маму она увезла к себе в Штаты. А брат давно жил собственной личной жизнью крупного бизнесмена. От родителей отдельно. Он у Сони настоящий новый русский и с ней не общается. Она с ним тоже. Даже на похоронах отца они не общались. Поскольку Соня обидела его смертельно. Брат считал, что отец должен умереть как положено — в частной клинике под наблюдением врачей — и что потом его нужно отпеть в Елоховском соборе и похоронить на Востряковском, как минимум. А она этому бреду бешено воспротивилась. Хотя объяснить, что евреев не отпевают в соборе, даже не попыталась.
Брат себя евреем не считает. Она ему когда-то рассказала, что по Галахе они не евреи. Потому что их бабушка со стороны мамы русская. А брат запомнил из всего её рассказа только то, что он не еврей. И жил соответственно этому «не». Крестился, венчался дважды и всякое такое.
Папу из больницы она забрала недели за две до смерти. И он умер дома, как ему и хотелось. Рядом с ней, с женой и внуком — Соня с сыном тогда из Штатов в Москву прилетела, вдвоём. И ей казалось, что умер папа счастливым. Если это, конечно, возможно. До последнего он говорил с ними и был в сознании. На какие-то вопросы отвечал. Улыбался.
После его смерти и их отъезда квартира больше года стояла запертой. Брат заниматься ею не желал. Тем более что принадлежала она не ему. Поэтому Соня приехала специально, чтобы квартиру освободить. Чтобы и следа той, исчезнувшей жизни в ней не осталось. Освободить и продать. Она дала объявления на нескольких сайтах и в газеты, написала в фейсбуке. Мол, приезжайте, забирайте всё, что хотите. Бесплатно. Соседям сказала. Знакомых тоже обзвонила оставшихся. И как раз, когда она их обзванивала, у неё стало болеть горло. А потом и голос пропал. Пропал и всё. На ровном месте. Был и не стало. Ни по телефону поговорить, ни вживую.
За вещами приходило довольно много людей. Она и не ожидала, что их будет так много. Открывали шкафы и шкафчики. Рассматривали. Выбирали что-то из посуды, из книг, из мебели. За магнитофоном «Чайка» пришел симпатичный дядька. Сказал, что ведёт сайт «Старое радио». Вынимал и нюхал бобины, пахнущие уксусом. Удивлялся и радовался, что плёнка не обсыпалась, и квартирник Галича, и ранний Высоцкий сохранились. С посетителями нужно было как-то разговаривать. А она не могла. А когда человек не говорит, собеседникам кажется, что он глухой. И они начинают кричать. Кричащие люди её смешили. Но смеяться было больно. Да и неловко. Они же хотели, как лучше. Выручали её. Вывозили своими силами то, что некуда было девать. Правда, она договорилась с каким-то фондом помощи непонятно кому. Фонд что-то взять соглашался, что-то нет, морочил голову, капризничал. Требовал составить на вещи опись, привезти их и разгрузить. А приходившие по объявлениям всё увозили сами. Увозили и уносили. Один мужик унёс на себе папину тумбочку. В ней у него хранились письма, орфографический словарь и какие-то мелочи вроде носовых платков. Сверху стоял будильник. Который сто лет не заводили. Папе не нужно было просыпаться по часам. Он мог спать столько, сколько хотел.
Соня делала себе гоголь-моголь, дышала над варёной картошкой, пила какой-то липкий сироп, какие-то таблетки. Помогало не очень. Но всё-таки.
Слава богу, приходили не только посторонние. Друзья тоже приходили. Почти все с едой. И с выпивкой. Говорили: «Мы же не знаем, вдруг у тебя холодильник уже забрали». «Нет, — отвечала Соня, — холодильник пока стоит. Хотя он и обещан соседям снизу».
Друзьям она старалась всучить какую-нибудь вещицу. Чтобы у них осталась память о её родителях и о ней самой. Хоть какая-то. Они отказывались. «Мы же, — говорили, — пришли не за этим, мы пришли повидаться». Их было немного, друзей. И становилось всё меньше. По естественным в общем причинам. Кто-то эмигрировал, кто-то умер, кто-то рехнулся, насмотревшись телевизора.
Квартира пустела, обнажалась. Но медленно. Вещей было много. За девяносто лет накопилось.
Она уже думала, не заказать ли контейнер и не отправить ли всё это малой скоростью в Штаты. Но представляла себе мужа и сына, разглядывающих содержимое контейнера. И не понимающих, зачем она прислала сюда это старьё, этот хлам. Не близкий свет всё-таки.
Время понемногу поджимало. Нужно было улетать. Хотя бы для того, чтобы отказаться от дорогущей сиделки. Но ускорить процесс не получалось.
А тут ещё друзья увезли её к себе на дачу. И она провела с ними почти три дня. Забыв обо всём — о вещах, о ремонте, о времени. Вернулась с дачи — замки взломаны, дверь открыта и в квартире один только диван. И на полу две книжки валяются. Папин орфографический словарь и бабушкин «Вертер» на немецком. То есть вынесли всё. Подчистую. Включая её чемодан. Хорошо, что документы, кредитку и зубную щётку она брала с собой. А то совсем было бы весело. Оно, конечно, и так весело, но с другой стороны, диван вынести не смогли и на нём можно спать. Он сломался лет двадцать назад и после починки не разбирался. И в дверь не проходил.
И Соня сидит теперь на полу, опершись об этот огромный диван. Вспоминает бабушку, листает словарь и думает: «Зачем? Нет, ну зачем? Ведь я же сама им всё отдавала».
2018
«Жигули» девятой модели
Девять дней Марику отмечали до похорон. Точнее — накануне. Так получилось. Трагически. Уехал он в командировку по делам фирмы, в город Краснодар, и по пути умер. От третьего инфаркта в сорок пять лет. Ну и пока в чужом городе чужие власти и службы дошли до того, чтобы позвонить родным и близким покойного, неделя пролетела. И провёл её Марик в морге. То есть не Марик, конечно, а его мёртвое тело. Могли бы они и раньше позвонить, службы — все документы при нём были и деньги тоже были в кармане. Так что и за его собственный счёт могли бы позвонить сразу. Но не позвонили. Может, закрутились по службе. А может, звонить родственникам иногородним не входит в их обязанности. И сначала, значит, пришлось отметить девять дней со дня смерти, а назавтра его друг и компаньон привез Марика, запаянного в цинк, из Краснодара прямо на кладбище. И люди туда к условленному часу приехали своим ходом. И присутствовали при погребении. А некоторые даже говорили речи.
Алка всё не могла решить, надо ли устраивать после девяти дней поминки, те, что в день похорон обычно устраивают. И в конце концов решила не устраивать. Но компаньон Марика сказал:
— Как, не устраивать? Надо, чтоб всё по-людски.
Алка ему говорит:
— У меня денег нет.
А он:
— Это мои проблемы.
От Марика действительно только его машина осталась. «Жигули» девятой модели. И дочь осталась, Карина. Восьми лет. Они вообще-то всей семьёй должны были через полгода в Германию уезжать. Благодаря тому, что Марик еврей. Теперь, возможно, никуда они уехать не смогут. Без Марика. Возможно, Алка с Кариной без Марика в Германии и не нужны. Они и здесь-то не особо нужны. Потому что Алка никакой специальности не имеет. Она последние десять лет была второй женой Марика и больше никем не была. А до этого курсы бухгалтеров окончила. Ещё при Советском Союзе. Но той бухгалтерии давно не существует. Так же как не существует Советского Союза. А насчёт денег Марик говорил:
— Не волнуйся, у нас есть деньги и на дорогу, и на всё другое, несмотря на то, что квартира остаётся матери твоей. Мне, — говорил, — мой компаньон и друг Ваня Реутов много денег должен.
И Алка не волновалась. Тем более Ваня и ей не чужой был. Это мягко говоря.
Он всеми делами и занимался, Алку от её обязанностей вдовы освободив — и в Краснодаре, и здесь. Сказав, кстати, что Марика ей лучше не видеть, так как зрелище это не для слабонервных женщин. Алка, правда, и не настаивала.
А тут другой компаньон Марика, срочно прилетевший из Казани, сообщил ей по секрету от Вани, что голова Марика сильно повреждена. И что, похоже, это не инфаркт.
— И врача, справку о смерти выписавшего, я не нашёл — сказал этот другой компаньон. — Не существует такого врача в Краснодаре.
— Как это? — удивилась Алка.
— А так.
Многое в смерти Марика было казанскому этому компаньону непонятно. Например, почему милиция к его смерти не проявила интереса. Раз он умер в тамбуре поезда и раз голова у него разбита. Потому как в инфаркте действительно никто виноват быть не может. Но в разбитой голове обязательно кто-нибудь бывает виноват. Особенно если она разбита в разных местах.
— Ничего, я разберусь, — говорил Алке казанский компаньон. — Я со всеми разберусь.
Алка его слушала с благодарностью, хотя главное для неё сейчас было не это, главное, было Марика земле предать. И Ваня, пообещав, что фирма всё сделает за свой счёт как положено, слово своё сдержал. Надо отдать ему должное. Всё организовал на уровне, так, что и родственники Марика остались довольны, и соседи, и Алка. А насчёт долга Ваня очень удивился.
— Я ему, — сказал, — ничего не должен. Вот тебе крест.
Алка ему говорит:
— Вань, ты ж со мной спишь третий год, я же без средств осталась с ребёнком.
А он ей:
— Ты что, меня шантажируешь, что ли? А говорила, любовь.
— Ну хоть машину, — Алка говорит, — у меня купи.
— Машину, — Ваня отвечает, — ладно, куплю. Хотя зачем мне «Жигули» девятой модели, я себе представляю плохо.
1999, 2018
Счастливое детство
Евреев на жилколонии завода ГШО было не очень много. Как говорится, раз, два и обчёлся. Но Лёвке жилось там хорошо. Ну, а чего? Все его знали, держали за своего и ничего против него не имели. И родителей его тоже знали. Потому что они всю колонию лечили в заводской медсанчасти. Отец — женщин лечил, а мать всех подряд. Независимо от половой принадлежности. Конечно, их знали и уважали. Можно сказать, что Лёвке даже нравилось его счастливое детство в самой счастливой стране мира СССР. Где детям принадлежало всё светлое будущее без остатка. Он только за керосином ходить не любил. Всё же тащить четырехлитровый бидон с Гатки было ему тяжеловато. В конце пути бидон уже бил Лёвку по ногам — то по левой, то по правой. Потому что Лёвка каждые десять шагов перекидывал его из одной руки в другую и обратно. Руки и ноги потом дня три воняли керосином. И отмыть их ничем не удавалось — ни ванной, ни горячей воды в их квартире не было. А родители посылали его в керосинную лавку лет с семи. Сами-то они вечно на работе пропадали, а в примус нужно было что-то заливать. Чтобы готовить завтрак, обед и ужин, а также вываривать постельное бельё.
Конечно, в счастливой лёвкиной жизни на колонии всякое бывало. Бывало, что и били его. Но на колонии всех иногда били — будь ты хоть еврей, хоть русский, хоть татаро-монгол. И верёвку — один, правда, только раз — протянули ему перед велосипедом, ради шутки. Чтобы он в темноте на неё налетел. Лёвка тогда и сам чуть не убился, и шрамы на руках и щеке навсегда остались, и переднее колесо пришлось менять. Его даже в велосипедной мастерской выправить не смогли. Даже пытаться не стали. То есть жил Лёвка не хуже, чем другие дети младшего и среднего школьного возраста жили. И в футбол за колонию в турнире «Кожаный мяч» играл, и клубнику в частном секторе воровал, и на Боржом ходил с боржомскими драться. И не боялся. Он не трусливый был по природе. Единственное, чего он боялся… вернее — кого, так это Лембу. И то скорее, не боялся, а побаивался. И старался обходить его стороной. Так же, как и сына его. Который был года на два младше Лёвки. Щуплый и весь какой-то впалый, но психованный. У него и кличка во дворе была — Псих. Чуть что, сразу хватался за камень и швырял его обидчику в голову. Как-то он поругался с Гаврилой, в смысле, с Колькой Гавриленко — здоровенным пацаном, — и Гаврила назвал его шкипером. Ни Гаврила не знал, что это такое, ни Псих. Но слово ему не понравилось. Действительно, слово какое-то непривлекательное. Псих тут же схватил валявшуюся на дороге половинку кирпича и полдня гонял Гаврилу по колонии, пока не выбился из сил и не упал в пыль. А все говорили — что вы от него хотите? У него батя тёплую кровь каждый день пьёт. Конечно, он псих. Из-за этого он бесился или нет, неизвестно. Но старший Лемба действительно кровь пил. Он на мясокомбинате работал. В должности бойца крупного рогатого скота. И работа его состояла в том, что он ставил корову или там бычка в специальный станок и бил его специальной кувалдой между рог. И с одного удара убивал. Потом Лемба сдирал с трупа коровы кожу, подвешивал тушу на крюк и отправлял её на разделку. А перед отправкой взрезал вену и выпивал кружку коровьей крови. Поэтому в обеденный перерыв в столовку он не ходил. С утра был сыт по горло.
Лёвка не знал, что больше его пугает — удар кувалдой по голове, сдирание шкуры (он почему-то всегда думал «кожи») или это выпивание крови. Уж слишком оно казалось ужасным. А сам этот процесс ему было страшно даже вообразить. Ну как это? Он берёт кружку (кстати, кружка чистая или уже вся в кровище?), цедит в неё из вены густую кровь и выпивает, как томатный сок? А если получится неаккуратно? У него кровь течёт по подбородку? И капает на живот? Живот у Лембы был существенный. И губы потом остаются в крови? Или он их сразу облизывает?
В общем, Лемба и Псих слегка омрачали Лёвке его счастливое детство, и он старался держаться подальше и от папы, и от его сынка. Что было не так-то просто. Поскольку жили они в одном доме. Хотя и в разных подъездах.
И однажды Лёвка таки встретился со старшим Лембой лоб в лоб и с глазу, как говорится, на глаз. Он у одноклассника в гостях телевизор смотрел и шёл уже домой, по лестнице спускался. Тут обе створки подъездной двери и разлетелись в разные стороны. И в подъезд ввалился Лемба. Пьяный в дым. Он хватался руками за перила, спотыкался о ступени, соскальзывал с них. Падал и снова вставал на четвереньки. Наконец, он заметил Лёвку, навёл резкость и заулыбался. Криво так. Слюнявым ртом. Обернуться и убежать наверх Лёвка не догадался. Просто потому, что остолбенел. Он прижался к стенке и ждал, что будет, когда Лемба до него доберётся. Лемба добрался. На его бессмысленном лице опять появилось что-то вроде улыбки, и он сказал: «Ну что, жидочек, забздел? А я добрый». — Лемба нежно потрепал Лёвку по волосам ручищей размером с лопату, упал на ступеньки и мгновенно уснул. «Наверное, так засыпают сказочные богатыри, — подумал Лёвка. — После пира горой или после победы над змеем Горынычем в бою».
2020
Шапочка
Когда учительница вызывала Лёнчика к доске и говорила: «Некрасова выучил? Читай», — Лёнчик отвечал: «Я Пушкина люблю». «И за что ж ты его любишь?» — спрашивала у Лёнчика учительница. «Пишет складно», — отвечал Лёнчик. И молчал. Но вообще, он не отставал в развитии от сверстников, хотя кто такие Атос, Портос и Арамис, понятия не имел. Поэтому в дворовых играх всегда был гвардейцем кардинала и всегда бит так называемыми мушкетерами. И гвардейцы у него ассоциировались исключительно с теми, кого бьют, а сам кардинал с Аркашкой Флейшманом. У которого была точно такая шапочка, как у кардинала, только не красная, а чёрная. Во всяком случае Аркашка и книжку читал, и кино видел — и он это утверждал. Лёнчик ему верил. Остальные тоже верили. Кино же врать не будет. А в кино, говорил Аркашка, у кардинала шапочка именно такая. Один к одному.
А потом Аркашку в армию забрали. И он на своих проводах зачем-то эту шапочку Лёнчику подарил. В память о детстве, что ли. А сам из армии не вернулся, пропав в ней без вести. Потому что его в Афганистан родине служить отправили. Тогда многих туда отправляли. Лёнчик узнал, что Аркашка пропал, достал шапочку из комода и стал её на макушку прилаживать. Но она не прилаживалась. Соскальзывала при любом движении. «И как они её только носят? — думал Лёнчик. — Кардиналы эти». Так и не понял.
2018
Счастье
У Брони четверо детей. Все взрослые.
Один сын, правда, в тюрьме. Но он всегда в тюрьме, так что с ним никаких хлопот.
Другой в Израиле. И у него тоже всё в порядке и всё хорошо.
Старшая дочка Бронина, слава Богу, давно живет отдельно. В Ташкенте. У неё шестеро детей от мужа-узбека. Который умер.
А младшая, Ленка, родила третьего ребёнка. У Ленки дети от разных мужей и сожителей.
Двоих её мальчиков Броня устроила в еврейский интернат. Называется иешива. Там они сыты, одеты, учатся и молятся. Оказалось, способные ребята, хотя, конечно, и босяки. А третий родился совсем недавно. Смешливый такой пацан. Лежит себе поперёк кровати голышом и кряхтит. Броня ему улыбнётся. Он — ей. Она — ему. Он — ей. В общем, бабушка на него не нарадуется. Счастье, а не ребёнок. Одно сплошное счастье.
2018
МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ
Завещание
У подъезда меня ждёт мокрый кот. Он сидит на скамейке. Мокнет и не обращает на это внимания.
А дома кот стал быстро сохнуть, весь слипся и подурнел. После чего лёг спать на пороге. И часть его лежит в кухне, а часть с хвостом в коридоре. И я впервые понимаю, что кот мой состоит из двух частей. С эпилогом…
Мне тоже хочется лечь. Не в кухне, конечно, и не в коридоре. Но я не ложусь. Потому что днём мне такое снится — не дай бог. В субботу уснул после завтрака минут на пять, не больше, и сразу приснилось, что мыл полы в консерватории. Вместе с беременной (не от меня) старухой у самого синего моря. Пять этажей. Сверху донизу. Старуха, уходя в декрет, меня хвалила. Потом я участвовал в русском марше миллионов вместе с какими-то кавказцами. Запомнилось, что с марша мы все так и не вернулись. То ли погибли, то ли пропали без вести, то ли ассимилировались к чертям собачьим. А в завершение пятиминутки ещё и совершенно шизофренический какой-то сон успел присниться. Что-то мне нужно, что — неясно. Юрик берётся помочь. Идёт договариваться. В зубах у него сигара. Хотя в жизни он не курит. Спрашиваю, к кому он идёт. Говорит — к знакомой с жилколонии завода ГШО. Фамилия Штепа. По вечерам она работает в газете «Шабат Шалом», а днём секретаршей у кого-то важного и нужного. Через него мне Юрик и поможет. Тут же я оказываюсь в приёмной этого важного. Приоткрываю какую-то дверь, думая, что это выход, а это шкаф. Закрыть дверь не успеваю. Из кабинета важного выходит Штепа и ловит меня на том, что я лазал в шкафу. Я объясняю, что не лазал. Но звучу неубедительно. Она молоденькая, симпатичная, с хвостиком. Я спрашиваю у неё, где тут Юрик покупал сигары. Хочу, мол, тоже купить ему дюжину в знак уважения. Хотя он и не курит. Она объясняет, показывая пальцем. Налево, направо, прямо. Я иду, куда послали, там стоит что-то вроде трамвая. Сажусь, и он едет. Минут десять он едет. Или двенадцать. И едет довольно быстро. Останавливается. Вожатый объявляет: «Насосная». Все выходят. Я тоже выхожу. Спрашиваю, когда обратно. Вожатый смотрит в телефон и говорит: «Через час». Пешком возвращаться далеко. Прикидываю: шестьдесят км в час на двенадцать минут… Нет, далеко. Тем более ехали всё время в тоннеле. Кроме вожатого на остановке ни души. Топчусь один. Вокруг холмы. Думаю, откуда я знаю фамилию Штепа. Думаю, что так и не купил сигар Юрику. Теперь он решит, что я жлоб. И Штепе надо было бы купить шоколадку. Вернусь — куплю. Если, конечно, вернусь.
Да, самое главное. Зовут Штепу Лизкой. Вернее, звали. Думаю, её давно и на свете-то нет. В конце шестидесятых на колонии завода ГШО она была единственной наркоманкой. Морфинисткой. Ходила по больницам и поликлиникам, жаловалась, что у неё рак. Просила сделать что-нибудь. В смысле, обезболить. Иногда вызывала «скорую» с той же целью. То есть в надежде на морфий. Но её все врачи и аптекари уже знали. И как она выходила из положения, не представляю — тогда с наркотой было сложно. Разве что спасалась коноплёй. Которой мы в детстве кормили птичек — щеглов и чижей.
Иногда во время ломок Лизка распахивала окно (четвёртый, по-моему, этаж) и стенала на весь двор, угрожая выброситься. Она была альбиноской, с копной белых волос над белым лицом, без бровей и ресниц. Страшная.
Так что спать днём я не ложусь ни за что. Тем более зачем-то ко мне приходит знакомый и видит мою сестру со стороны отца. Она у него поздний ребёнок от самого последнего брака. Я — от самого первого, а она от последнего. Ей всего тридцать семь лет, не замужем и не была.
— Чего это она у тебя не замужем? — спрашивает приятель в её присутствии. — Такая красавица.
— Не берет никто, — отвечаю.
— Я — беру, — говорит он. — Тем более я как раз развод в загсе оформил.
Он показывает ей свидетельство и делает предложение. Тут же, торжественно. И она торжественно соглашается. Хотя впервые его видит.
И всё у них идёт хорошо. Как по маслу. Но в жизни так не бывает. Чтобы всё, как по маслу. Поэтому она во время родов сойдёт с ума. Да так сойдёт, что жить с ней станет невозможно. Совсем невозможно. Видно, бог её берёг от сумасшествия, не давая выйти замуж. А когда на минутку отвернул лицо — тут всё и произошло. Молниеносно.
И придётся моему знакомому забрать сына и уехать в Молдавию. А сестра останется в городе. И будет жить с его родителями, думая, что это её мама и папа. Потому что своих папы и мамы у неё нет. Так же, как и у меня. А после всех этих событий у меня и сестры фактически не станет. Несмотря на то, что она всё-таки есть. Хотя, возможно, этого и не осознаёт.
Как многие не осознают многого.
Как бывшая жена Серёжи Колбасенко, ныне вдова со стажем, не осознаёт своего теперешнего возраста и своей внешности. Ей всё кажется, что она за годы нисколько не изменилась.
Серёжа Колбасенко занимался борьбой самбо в полутяжёлом весе. Самообороной без оружия, значит. И всех побеждал. Серёжа многим был мне обязан. Потому что, если бы не я, так ещё неизвестно…
Тем летом моя мама с подругой уехали в Трускавец, профилактически пить минералку. Я присматривал за квартирой этой подруги. Создавал эффект присутствия жильцов, чтоб не бомбанули, и цветы поливал. А Серёжа как раз познакомился с тоненькой красивой девушкой. Очень тоненькой и очень красивой. Конечно, я дал ему ключ от этой квартиры. После чего они сразу же поженились, и у них родилась дочь. Тоже тоненькая и красивая. Серёжа был счастлив. Правда, недолго.
Как-то он шёл поздно вечером с работы, и ему в спину воткнули нож — прямо во дворе его дома. Почему, за что — по сей день неизвестно. Может, закурить он не дал, поскольку спортсмен, а может, увидели, шкаф такой идёт — ну и воткнули. И оставили на скамейке у подъезда. Где его утром нашли соседи и прочие граждане.
А жена Серёжина думала, что он любовницу себе завёл и ночевать не пришёл — все морги обзвонила.
Она потом сильно растолстела от горя. И подурнела. Но подурнела она, наверно, от возраста. Хотя кто знает… Главное, она не осознаёт себя толстой и постаревшей, совсем не осознаёт. И многим кажется это смешным. А это разве смешно?
Да, многие не осознают многого. В том числе и я, конечно. В том числе и я.
Вот, к примеру, время от времени ловлю я себя на том, что неосознанно продолжаю диалог с самим собой. Другие ведут конструктивный монолог с окружающими, а я — диалог с собой. Всё веду и веду. Всё продолжаю и продолжаю. Иногда без перерыва на сон. И даже на обед. Когда он начался, я не помню, когда закончится, не знаю. Вдруг никогда? Но чтобы это выяснить и проверить, остаётся только продолжать. Другого пути нет. Ну вот я и продолжаю:
— Опять такой зимы старожилы не упомнят, — говорю.
— А я, — говорю, — это не потому, что её давно не было, а потому, что у старожилов память отшибло. Какая у старожилов может быть память, если они живут сто лет и у них вместо памяти маразм?
Тут у самого уже… Как в стишке: «Кто стучится в дверь ко мне»? Вот он и стучится. А я затаился, лёг на пол и не открываю, как будто меня вообще нет и не существует. Я же человек опытный. Я за свою жизнь накопил богатейший, никому не нужный, жизненный опыт.
— Встать, что ли, открыть ему дверь? Или лучше не надо? А то мы уже однажды вспомнили некстати пословицу «Пришла беда — отворяй ворота». Вспомнили и, как идиоты, ворота отворили. А там никакая не беда. Там пиздец. Подкрался и стоит незаметно. Весёлый и многообещающий. Всем своим видом как бы говоря, мол, вот я и пришёл.
А мы говорим: «Ну что делать? Пришёл так пришёл. Чувствуй себя, как дома, нам не привыкать». В смысле, встретили, как родного. С распростёртыми объятиями. То есть, как обычно. Не посрамились перед дорогим гостем и лицом в грязь не ударили.
— Значит, лучше не открывать? Затаиться навсегда. Навечно. До скончания дней. И вообще никуда до них, до дней этих, не выходить.
Можно ли жить, не выходя? Совсем не выходя? Можно. Особенно сейчас, в двадцать первом веке, в эпоху гугла, сайтов знакомств, удалённых рабочих мест и продуктовых интернет-магазинов. Многие так и живут. Конечно, я знал людей, которые и раньше жили, из дому не выходя. Какое-то время. Но это было перед самой их смертью.
Я думаю, что нужно бы выйти. И пройтись, хотя бы недалеко, к проспекту. А то мало ли что. Но продолжаю сидеть. Сидеть дома и ждать обеда. Как ждут у моря погоды. Сидеть и ждать. Осознавая, что чем меньше я буду есть, тем мне же лучше будет. Я и по ночам хожу на кухню и хлебаю суп из кастрюли исключительно чайной ложкой. Чтобы меньше съесть и не поправиться. Хотя если суждено тебе поправиться, ты поправишься, а если нет, то нет. С неизбежностью бороться бессмысленно. Даже если очень хочется. Надо с ней не бороться, а мириться. Если ты, конечно, умный человек. Только не всегда получается быть умным. Да и не всегда это нужно. Так же, как не всегда стоит быть честным. Несмотря на пропаганду честности и связанного с ней унылого образа жизни. Честность обычно пропагандируют люди, верить которым нельзя ни в коем случае. Ни одному их слову нельзя верить.
По семейному преданию многие мои предки, к примеру, воровали кур. И очень жизнерадостно себя при этом чувствовали. И никаких угрызений совести не испытывали из поколения в поколение. Трудовая династия у них была такая. А деды мои и родители, и сам я уже не воровали. И династия исчезла с лица земли, прекратив своё существование. Ну, как у прокуроров. Которые много лет, из века в век, женились на прокурорах и рожали себе подобных прокуроров. И была в мире гармония, и все были счастливы, и всё было хорошо. Но потом один безответственный прокурор вышла замуж за адвоката, и у них родились судья, следователь и гаишник. На этом трудовая прокурорская династия трагически прервалась. Потому что судья родил нотариуса, следователь паспортистку, а гаишник так и прожил свой век старой девой и умер в полной нищете.
То есть я, может быть, тоже воровал бы их, кур. Но где их своруешь? В центре большого города, который из многоэтажных домов состоит целиком и полностью, от края и до края? В центре большого города кур не держат. Их там только едят в разных видах и в разных местах. Привозят откуда-то издалека, наверное, из богатых курами деревень и сёл, и едят. Причём привозят оптом, а едят в розницу. Каждый сам у себя дома. Или в кафе, столовых и ресторанах порционно. С дамами, спиртными напитками и танцами.
В общем, пойти по стопам своих предков мне не посчастливилось. Вернее, долго не удавалось. По веским объективным причинам. Но однажды я всё же по ним пошёл. В смысле, по стопам предков. Недалеко, но пошёл.
Я специально, по зову крови, поехал в деревню. Якобы в отпуск отдыхать. И украл там у местных жителей двух огромных жирных кур. Которые на поверку оказались гусями. Смеялись надо мной всей деревней, включая участкового милиционера и хозяина пострадавших гусей. Конечно, после такого позора мне ничего не оставалось, как до конца прожить жизнь честным человеком. Ну, выбора у меня никакого не было. И альтернативы — тоже не было.
И я остался честным. И живу теперь очень скучно. Так скучно, что хоть плачь, хоть вешайся, хоть помирай каким-нибудь другим способом.
Зато в большом городе. И зато честно. А за что за то? Тем более, город наш большой только с точки зрения кур и их деревенских производителей. А на самом деле он так мал, что одного симфонического оркестра и одного публичного дома ему вполне хватает. Да и какой это дом? Так, забегаловка для приезжих, хуже дома культуры. Притом, что в городе у нас никаких приезжих никогда почти не бывает. И не бывало. Ну кто сюда поедет? Какой дурак? И зачем? Может быть, только какая-нибудь Лолита на гастроли. И то сомнительно. Тут и те, кто живет постоянно, не знают, зачем они здесь живут. Судьба их закинула, определив место рождения и дальнейшего проживания, вот они и живут, в смысле, проживают. Куда ж им, в смысле, нам деваться? Уехать отсюда не так-то просто. Железная дорога город наш брезгливо огибает, а междугородные автобусы теоретически есть и должны ходить строго по расписанию, прибитому гвоздями к столбу автостанции. Но они не ходят. Зачем им ходить, раз ни из города никто никуда не уезжает, ни в город никого калачом не заманишь. Глупо же и неэкономично бензин жечь ради механического следования расписанию. Которое ещё неизвестно кто и в какие исторические периоды составил. И кто несёт за него ответственность — тоже неизвестно. То есть по такому одиозному, можно сказать, расписанию действительно лучше не ездить. А сидеть, где сидишь, сиднем в своё полное и окончательное удовольствие.
Мы и сидим. Удовольствия, правда, от сидения и городского образа жизни не испытывая. Поскольку разве это жизнь, если она городская? Гастроном, аптека, балет, туалет. Нет, я люблю природу и жить на ней люблю. Особенно в летнее время года. Чтобы по реке вниз на байдарках и каноэ. А с берегов крестьянские дети с собаками, курами и коровами. Провожают тебя взглядами, махая руками и завидуя белой завистью. Они тут живут в своих пампасах днями и ночами с рождения, а ты только мимо проносишься по извивам и рукавам. Они хотят с тобой в прекрасное далёко, мечтая о нём со школьной скамьи, но у тебя в байдарках и каноэ нет лишних мест. Все места заняты согласно купленным билетам плюс багаж. И дети украдкой плачут, смахивая скупую крестьянскую слезу, а собаки скулят тебе вслед и виляют хвостами в пространстве, создавая ими лёгкий ветер и завидуя твоему счастью. Которое не за горами. От устья часа два самолётом на север, а там электричкой и — дома. Где встретят тебя как подобает, встретят и скажут: «Ну что, блядь, вернулся?»
К слову, встретил я тут старого знакомого, которого сто лет не видел. Я случайно зашёл к друзьям, и он тоже к ним зашёл. И тоже случайно. И там меня увидел. Но не узнал. Или сделал вид. А я его узнал. Но не могу вспомнить, кто это.
Не могу, хоть убей. Может, Петелин? Который всегда приходил неожиданно. Приносил два пирожка с маком или мороженое, или газетный кулечек арахиса. Зачем приходил — непонятно. Придет, постоит пять минут в коридоре, что-то такое расскажет из своей жизни, отрывочное, вне контекста. И уйдет.
Дети спрашивали:
— Зачем он приходит?
Жена говорила:
— Не знаю. Приходит и всё. Иногда денег одолжить приходит по мелочи. Иногда отдать их. Между прочим, всегда с цветочком каким-нибудь или с шоколадным батончиком. А в основном — просто так приходит. От одиночества и отсутствия любви вокруг.
— А тут его кто-нибудь любит? — спрашивали дети.
— Пожалуй, что нет, — говорила жена.
И дети задумывались над её ответом и не понимали.
Нет, это, конечно, не Петелин. У меня и детей-то нет. Дети у меня были очень давно. И давно выросли, и стали взрослыми. А Петелин умер. Точно. Умер. Сначала развёлся с женой, пожил с ней в разводе в их общей однокомнатной квартире и от такой жизни заболел. И умер. Так что это точно не он. А кто, не знаю. Не могу вспомнить. Да, собственно, мне это и не нужно. Может, поэтому и не могу.
И я бросаю думать о ненужном. Я прислушиваюсь. К окружающей меня действительности и среде.
Лучше всего жизнь дома ощущается у нас в туалете. Здесь слышны звуки всех пяти этажей. Видимо, сливная канализационная труба работает как усилитель звука, как дека гитары. Или виолончели.
Но лучше всего из туалета я слышу, чем живёт сосед слева. По утрам он с похмелья поет и стонет. По вечерам с кем-то ругается и выясняет отношения. Причем ругается жестоко, как перед мордобоем. Что он делает днем — я не знаю. Наверно, не делает ничего. Наверно, днем он ждет вечера. Чтобы утром имело смысл петь и стонать.
А самое интересное, что здесь не только всё слышно, но и всё видно. Окно в санузле из-за тесноты располагается прямо пред носом. Если, конечно, сидеть, а не стоять. И весь двор оказывается в поле зрения сидящего.
Когда в твоей собственной жизни ничего не происходит — несмотря на происходящее в стране и мире, — начинаешь думать, что всё у тебя впереди. Хотя всё впереди бывает только, когда отступать некуда. А ещё начинаешь прислушиваться и присматриваться, а не происходит ли что-нибудь интересное у кого-то. И это хорошо, поскольку вместо того, чтобы думать о своём скором будущем, которое, к сожалению, известно, я могу прислушиваться к жизни дома и соседа слева или к своим собственным внутренностям. А могу глазеть на то, что происходит за окном. Где орёт с балкона третьего этажа вниз глуповатая девка. Она орёт: «Лена, подойди ближе, я тебе такое расскажу!» И опять повторяет то же самое. Лена почему-то не подходит, то есть она подходит недостаточно близко, чтобы можно было ей рассказывать такое. Там же глухо ударяется о землю футбольный мяч. На пустыре, зажатом мусорными баками и дорогой, идёт игра в футбол. Окрашенная звонким детским матом.
По этим мусорным бакам много лет стучал Геша-будильник из первого подъезда. Выходил по утрам во двор и стучал. Чем-нибудь металлическим. Или деревянным. В общем, что под руку ему попадалось в куче мусора, тем и стучал. И весь двор просыпался. И клял Гешу последними словами. Потому что он же не только в будние дни стучал. Он стучал всегда, не отличая дни недели один от другого. Для него все они были одинаковыми и на одно лицо скроенными. Он и месяцев-то не отличал. Времена года — другое дело. С временами года всё понятно и просто. Снег — значит, зима. Жара — значит, лето. Дождь — значит, осень. Или в крайнем случае весна.
А стучал он не для того, чтоб людей отдыхающих от трудов, разбудить. Зря многие его в этом подозревали и даже несколько раз били. Нет, Геша стучал по другой причине. То есть он без всякой причины стучал. Может, ему казалось, что он что-то строит, возводя ударными темпами. Или играет в ансамбле народных инструментов на ударных. И тем самым приносит пользу себе и обществу. Вообще-то, во всём остальном Геша-будильник был безобидным, не вредным и неглупым. Если с ним поговорить на темы дня, можно было его за какого-нибудь интеллигента принять. А то и за журналиста. Так хорошо и здраво он обо всём на свете рассуждал и всё в мире комментировал. Потому что он же на работу или там по другим каким-нибудь делам не ходил, а целыми днями радио слушал и плюс к тому газеты читал. Правда, не свежие газеты, а выброшенные кем-нибудь в бак. Но все подряд и от корки до корки. Так что и в политике, и в экономике, и в общественной жизни страны и мира он разбирался досконально и не хуже других экспертов. Голова у него была неплохая. И ум в ней — аналитический. Поэтому как там ещё и болезнь разместилась — не очень понятно. Видно, у него в голове места было много свободного и ничем не занятого. А природа, она же пустоты не терпит. И так как человек вообще и его голова в частности — тоже часть природы, то она и заполняется по этому закону чем попало. Хотя и у каждого по-своему. Ну, а когда голова Гешина переполнялась и из неё начинало через край хлюпать, соседи вызывали ему спецскорую помощь, и Гешу месяц, а то и два лечили передовыми методами, доступными отечественной медицине. После чего он выходил задумчивым и опять начинал читать газеты и слушать радио, а также мирно стучать по мусорному баку чем-нибудь металлическим или деревянным, будя чуть свет людей, которым кажется, что будит Геша не только их, но и их спящую совесть. Чтобы она их грызла и мучила. И хорошо, что совесть мучит только тех несчастных, у кого она есть, все остальные граждане живут хорошо, а то бы столько народу жило в муках, столько представителей творческой и иной интеллигенции. Основное назначение которой — служить совестью народной. Но жизнь у интеллигенции трудная, низко оплачиваемая, поэтому, когда припрёт, кому только она не служит. Уподобляясь каменщикам с жизненным кредо «Мы кладём на совесть». А заодно — и на её вечные муки. Ещё спасибо, что совесть — не кошелёк и теряется постепенно. Так, что можно этого и не заметить. И продолжать спокойно жить. Пока не спохватишься, обнаружив, что нет у тебя ни стыда, ни совести. И ведь далеко не каждый может это в себе обнаружить. А со стороны определить часто бывает некому.
Раньше у меня для этого был отец. Он говорил: «Всё просто. Бессовестному человеку не бывает стыдно». Тогда даже дразнилка была такая: «Как тебе не стыдно, панталоны видно». Весёлая вроде дразнилка. Но все знали, что панталон видно быть не должно. А стыдно — должно быть. По тому или по иному поводу, но должно. Обязательно. Мне вроде бывает. Или, как минимум, бывало. Рассказываю.
Мои родители жили не матерясь. То есть совсем. Как им это удавалось при их жизни, только они знали. У папы военное детство, армия, потом, правда, мединститут. Мама с семнадцати лет одна, работала электриком, с месяц ошибочно сидела, потом на шахте, правда, тоже врачом. Причём она и сама не материлась, и другие при ней материться стеснялись. В бытность зав. медицинской частью завода ГШО она иногда ходила на оперативки. Директор начинал: «Татьяна Львовна, слушаем». После того, как «решали вопрос медицины», он её отпускал и говорил: «А теперь, ёб вашу мать, начнём оперативку».
И я был более или менее приличным ребёнком. Но дома. Во дворе же и в школе крыл, как все.
После восьмого класса перевёлся в десятилетку, и моя дорога домой стала совпадать с папиной. Как-то шли с одноклассником из школы, беседовали. Мат, естественно, стоял коромыслом. А за нами шёл мой интеллигентный папа. И всё это слушал. И не вмешивался. Неудобно ему было влезать в нашу беседу, неловко. Минут через десять я случайно обернулся и увидел его. Папа подошёл, осмотрел меня и спокойно сказал:
— Что, брат, стыдно? Это хорошо. Значит, совесть у тебя пока есть.
Наверное, он был прав. Насчёт совести. Потому что так стыдно, как в тот момент, мне не было никогда. До сих пор уши краснеют, когда вспоминаю. А вспоминаю я отца довольно часто. Несмотря на то, что его нет уже восемнадцать лет. Целое совершеннолетие.
Оторвавшись от окна, выхожу из сортира и выставляю кота на лестничную клетку. Он сопротивляется, не хочет идти, поскольку считает, что до ухода неплохо бы поесть. У него очень короткая память, и он не помнит, что ел пять минут назад. Я и сам не прочь пообедать. Хотя тоже ел сегодня. А мне надо худеть. Мне всегда надо было худеть. Мама рассказывала, что в три года я ел две манных каши в день. Она говорила: «Алик, ты будешь толстым, давай переходить на одну кашу». Я отвечал: «Ты хоцес, стоб я с голоду умёл?», — и требовал две. Утром и вечером. Позже, в процессе жизни, я, конечно, похудел. Потом опять поправился. Потом снова похудел, а теперь вот опять — надеюсь, в последний раз. Прошлогодние штаны не налезают не то что на бёдра, они заклинивают уже в коленях. И мне жалко штанов. Почти ещё новых. Не потёртых. Без дыр и бахромы. Хотя чего их жалеть? Глупость это. Поэтому я и говорю: «Старым быть даже хорошо. Маме не нужно волноваться, что зимой тебе не в чем ходить. Потому что мамы давно нет. А штанов у тебя до смерти хватит и ещё останется».
Вернувшись к своему наблюдательному пункту и устроившись, я вижу, как рядом с играющими в футбол мальчишками гуляют перед смертью старухи и кричат что-то хором девочки младшего школьного возраста. Кричат почти слаженно. По слогам. Почему они кричат, издали не понять. Возможно, это какая-нибудь коллективная игра. Возможно даже, она сохранилась со времён советского коллективизма и воспитания в нём и его духе подрастающего поколения. Тогда же воспитывали всё поколение скопом. И поколения входили в жизнь одно за другим, воспитанные твёрдой рукой учителей, наставников, отцов и дедов. Входили и жили, как по писаному, в труде и в обществе, а также в семье и коллективе единомышленников. Потом поколений, можно сказать, не стало. И все зажили отдельно — каждый, как ему вздумается и как придётся. Исчезла общая жизнь. Наступила жизнь частная. Жизнь каждого отдельного человека. Будь он хоть ребёнок, хоть взрослый, хоть юноша, обдумывающий житьё. Наступила она, ясное дело, временно. Этого во дворе никто ещё не знает, но это так. Просто потому, что всё наступает временно. В особенности частная жизнь в наших краях. И любая сволочь в любой момент может прийти к власти и превратить нашу частную жизнь в общественную, устроив какую-нибудь общую большую беду.
А о вышеупомянутом соседе слева я как-то узнал от старухи с нижнего этажа, что ругается он сам с собой. И что ругаться ему больше не с кем. Так как живёт он одиноко. Как перст, живёт. Бобылём. Не знаю, оправдывает ли это его ругань. В конце концов, не он один так живёт. Многие так живут. Во всяком случае, в нашем старом доме.
Старуха эта самая, из квартиры, что прямо под моей, тоже умерла. Все же старухи неизбежно умирают. И она умерла вместе со всеми. Я как раз поставил кастрюлю воды на газ. Я, ещё когда старуха была жива, хотел помыться. А горячей воды, понятное дело, нет. Газ горит синим пламенем с жёлтыми прожилками. Рядом с печкой, на стиральной машине, стоит пластиковое ведро. Оно быстро нагревается и начинает оплывать одним боком. Потом бок вздувается. Я наблюдаю, как ведро приходит в негодность. Наконец, я хватаю его за ручку, чтобы переставить. Но хватать надо было раньше. Теперь ведро можно только выбросить. Даже под мусор его нельзя приспособить. Потому что он будет вываливаться на дорогу.
Хорошо старухе. Ей не надо думать, что делать с ведром. И не надо мыться. Или, во всяком случае, мыться ей не хочется. Как не хочется ничего вообще. Ей и до того, как она умерла, было неплохо. Лежала себе, как барыня, болела. Её Анной Петровной при жизни звали, и совсем недавно, недели две назад, она сильно Надьку испугала. Утром. Надька — тоже старуха. Но крепкая. Нет, конечно, Анна Петровна её не пугала специально. Она просто ей объяснила, что Надька дура и что умные люди так не поступают. И Надька от этого объяснения испугалась. Она же как думала — раз они в милицейской форме, значит, всё в порядке и по закону. А Анна Петровна сказала: «Вы милицию вызывали?». Надька говорит: «Нет». «Тогда зачем же вы в час ночи им дверь открыли? А если бы они ударили вас по голове и всё из квартиры вынесли»? Надька смотрела на Анну Петровну и моргала глазами, и говорила: «Так я ногу подставила под дверь, чтоб они не открыли. И они же в форме были. Милиция». А Анна Петровна ей говорила, что два здоровых мужика плевать хотели на её ногу и что форму её же собственный сосед продаст за бутылку водки кому угодно — лишь бы кто-нибудь её купил. И если будет она звать на помощь, он в жизни из квартиры не выйдет. Потому что дома он находится не на службе, дома он отдыхает. Имея право. А совести не имея.
Надька и сама не понимала, зачем она открыла ночью дверь. Они позвонили, говорят «милиция». Она и открыла. В глазок посмотрела — там фуражки, кители, погоны, всё как положено — открыла, а они говорят: «Милицию вызывали?» Надька говорит: «Я сплю, какая милиция». «А телефон у вас есть?». «Нету». Ну, они и ушли. А наутро Надька поднялась к Анне Петровне — проведать и еду ей разогреть на газу, потому что она болела тяжёлой и продолжительной болезнью, — и про ночное происшествие рассказала. Просто, чтобы не так скучно было Анне Петровне болеть. Ну, Анна Петровна ей всё и объяснила. И Надька сказала: «Да, конечно, дура я набитая». И до смерти испугалась. А чего пугаться задним умом? Когда всё уже позади и прошло удачно? Разве только на будущее.
Которое как наступало, так и наступает. И раз оно наступает, оно обязательно наступает на кого-то. Обычно на нас. А чтобы оно на нас не наступало, мы должны сами в него входить, в будущее. Постепенно и осторожно. Оглядываясь. А не как дурак в реку. Но именно так мы в него и входим. Наверно, боимся остаться там, где мы есть, остаться без будущего. Хотя в жизни всё, что должно сбыться, ну всё абсолютно — от начала до конца — сбывается. Когда — это другой вопрос.
И весь день Надьке было плохо и неспокойно. Она думала: «А что, стукнули б по голове и поминай как звали. И взяли бы в квартире, что захотели. До утра времени было у них много».
Чтобы не сидеть и чем-нибудь себя занять до обеда — когда надо будет снова к Анне Петровне сходить, — Надька вытерла пыль с мебели и с подоконников. Полы мыть не стала, решила подмести. И всё думала: «Ну неужели форму милицейскую бандиты купить могут и ею воспользоваться? Совсем у людей ничего святого не осталось. А я верю им». И ещё она представляла, как один милиционер, тот, допустим, что с тонкой шеей, выхватывает из кармана молоток, бьёт её в лоб или не в лоб, но по голове, а второй затаскивает её, упавшую на пороге, в квартиру. И они закрывают за собой двери, а Норку, которая, конечно, лаяла бы изо всех сил, тоже бьют тем же самым молотком.
И как только она всё это себе представила, в дверь позвонили. Надька вздрогнула. Тихо подошла к двери. Послушала.
Позвонили ещё раз.
— Кто? — вскрикнула Надька.
— Пенсия, — ответили из-за двери.
Надька посмотрела в глазок — за дверью стоит женщина, но не Зина. Другая какая-то.
— А где Зина? — спросила Надька.
— В отпуске.
И Надька стала думать, что ей теперь делать. Открывать было боязно и страшно, а без пенсии жить практически невозможно.
Несмотря на то, что все мы без неё живём до определённого времени. Довольно долго живём и не все доживаем. Впитывая, так сказать, в себя жизненное пространство, а временем даже и пренебрегая.
Я вот, скажем, жил, не ощущая движения от рождения к смерти. Разве что иногда, от случая к случаю, выпивая и закусывая в одиночестве, то есть наедине с собой. И тогда казалось мне, что движение это подходит к концу, и смерть где-нибудь здесь, не за горами и, может быть, под самым моим носом. И я начинал спьяну к ней готовиться. Мысленно. «Надо написать завещание», — думал я. Хотя завещать мне было особенно нечего. Квартиру разве что родительскую пятидесятилетней давности. Однокомнатную. Но если учесть, что дом этот постхрущёвской постройки всего на пятьдесят лет был рассчитан, то не больно ценное наследство получается. И в квартире тоже ничего по нынешним временам стоящего нет. Пластинки виниловые — может быть, в качестве антиквариата — да вертушка «Вега» с последней иголкой, усилителем того же названия и колонками для начала восьмидесятых годов самыми лучшими, какие только продавались в магазинах по большому блату. Ну, еще книги. Только кому они теперь нужны, книги, кто их теперь читает? От них пыль только аллергенная, и всё.
И тем не менее, нехорошо никому это не завещать. Это же то осязаемое, что после смерти и наступления окончательного к вещам безразличия останется в результате моей жизни. Но, во-первых, как разделить одну комнату с пятиметровой кухней между женой и двумя детьми? Которым комната эта и на фиг не нужна. Потому что они давно уже материально и жильём обеспечены в разных странах Европы. А во-вторых, всегда, когда я задумывал заняться завещанием, у меня не оказывалось денег. А нотариусу-то нужно было платить. Жена говорила: «Плюнь. Кому твоё завещание нужно». А знакомые насмехались, мол, как же он без завещания? Без завещания — это не жизнь, а каторга.
И я продолжал существовать как прежде. В квартире жены. Поскольку она была больше и удобнее родительской. А в родительскую я только приходил иногда. Подышать. Пылью, так сказать, своего детства. И укрыться от окружающей меня среды на какое-то незначительное время.
Так я тогда завещание и не написал. Даже после того, как жена моя взяла и без всяких видимых причин от меня ушла, не написал. Ответно уйдя от неё в вышеупомянутую квартиру, которую и собирался завещать. Всё это меня сильно впечатлило. Особенно — что без всяких видимых причин. Позвонил нотариусу, объяснил, мол, всё, слава богу, отменяется за ненадобностью. На что нотариус сказал:
— Стесняетесь вы жить, — сказал, — а стесняться не надо. Не надо стесняться. Вы умирать стесняйтесь, а не жить.
Да, стесняться, наверное, не надо. Но и гадить не надо другим. Бывают люди, которые пакостят и гадости какие-нибудь другим устраивают одним своим существованием. И смертью своей досаждают самым близким так, что остаются в их памяти навсегда. Может, для этого и досаждают. Понимая, что иначе забудут их напослезавтра и никогда не вспомнят. Никак — ни хорошо (что понятно), ни плохо. А когда никак — это самое страшное и есть.
Тот же Слепков скоропостижно помер в воскресенье. Утром. Как раз в день рождения сына. Пятьдесят лет сыну его, Слепкова, исполнилось. Но это бы ладно. Хуже, что в понедельник страна праздновала Рождество. И значит, всё на три — это как минимум — дня вымирало. И жизнь вымирала. И смерть. А уж всё, что со смертью связано — и подавно. Граждане отдыхали, гуляли, пили, рождались и занимались тому подобными праздничными заботами. Кладбищенские люди исключения не составляли. И если присутствовали на своих рабочих местах, то в таком состоянии души и тела, что толку от них никому быть не могло. Справедливости ради — бюро ритуальных услуг в то воскресенье работало. «У нас короткий, предпраздничный день, — сказали там по телефону, — но мы работаем. Так что милости просим. Будем рады».
И сыну Слепкова пришлось не юбилей свой праздновать, а заниматься организацией ритуальных услуг для своего папы. Юбилей в ресторане отменили. Устроили вместо него за те же деньги поминки. Роскошные получились у Слепкова поминки. На широкую ногу. С осетриной, икрой и прочими деликатесами. Слепков на такие поминки никак не рассчитывал. И был их совершенно недостоин.
А вообще — достойно, недостойно… Всё это растяжимые понятия. Тут зависит, с какой стороны посмотреть. Вот Саша Касаткин в детстве был очкариком и заядлым спорщиком. Он спорил на любую тему. И всегда выигрывал. Как выяснилось, у него была домашняя библиотека. У нас — этажерка плюс немного в шкафу. А у него — библиотека. Книги от пола до потолка. В комнате и коридоре. Жюль Верн, Фенимор Купер, Вальтер Скотт, Стивенсон, Конан Дойл. И не только «Шерлок Холмс». Знаете, что такое «Маракотова бездна»? «Маракотова бездна» — это Конан Дойл. Читал Касаткин запойно. Конечно, он мог себе позволить выигрывать споры.
Мне книги в этом доме тоже давали. Чем я и пользовался. Пока родители не получили отдельную квартиру в районе Калиновой. А после школы Касаткин учиться не пошёл. Он не хотел учиться, он хотел читать. И читал до самой своей смерти. А работал наладчиком на трикотажной фабрике.
Женат был, но недолго. Говорил: «Мужчины у нас на фабрике — библиографическая редкость. Молодые — тем более». Время от времени какая-нибудь работница просила: «Касаткин, будь человеком, сделай мне ребёнка». И Саша по доброте душевной делал. Никому не отказывал. Достойно он поступал или недостойно? И сколько у него к пенсии образовалось детей? Он не помнил. Ясно, что жена от него ушла очень быстро.
И он долго жил с мамой. В квартире-библиотеке. Потом, лет в девяносто, мама умерла. Сестра с ним не общалась. Что-то она не могла ему простить, может даже, сонм его женщин и детей. Поэтому, когда Касаткин заболел, с деньгами и устройством в больницы помогали друзья. Они и утверждали, что перед лицом неминуемой смерти вёл себя Касаткин достойно. Вернее, в высшей степени достойно он себя вёл. Так считали его друзья. А вы говорите… Всё зависит, как к этому делу подойти. К смерти. Достойно далеко не у всех получается. Да оно и к жизни у всех подход разный.
Ирма, которая с кравчучкой, уверена, что главное — это воля к ней, и что жить стоит любой жизнью. Той жизнью, какая есть, той и стоит. А кравчучка — это мешок такой на колёсах. При первом президенте независимой Украины Кравчуке был широко применён народными массами для перевозки товаров и грузов народного потребления. Поскольку всё же получали на месяц, по талонам — мыло, сахар, водку, крупы. Тащить в руках, если на семью, тяжело. Вот и стали применять эту двухколёсную кравчучку. А Ирма и сейчас её широко применяет.
Ей семьдесят четыре года. Муж — военный, который, выпив, командовал Ирме «шагом арш, ногу выше», — умер. Собака — полупудель-полуболонка, — с которой Ирма не расставалась, протаскивая даже сквозь свирепых охранников в магазины, тоже умерла.
У Ирмы по этому поводу случился инсульт. Но она вычухалась. Потом второй. Опять вычухалась. Потом ей срочно удалили жёлчный пузырь. Вычухалась.
Потом она начала болеть самыми разными хроническими болезнями. Привыкла и притерпелась. И уверена, что всё у неё нормально. Более или менее.
Дважды в день Ирма медленно проходит со своей кравчучкой мимо элитного бюро ритуальных услуг — не того, где Слепкова обслуживали, другого. В гастроном и обратно. И каждый раз директор задумчиво смотрит ей вслед через окно. А секретарша говорит:
— Пал Сергеич, наш основной принцип какой?
— Одинокие — не наш профиль, — отвечает Пал Сергеич.
— Именно, — опускает жалюзи секретарша. — А мы — люди принципиальные.
Я тоже принципиальный человек. Или скорее, человек принципов. Во всяком случае, был таковым до вчерашнего дня включительно. И принципы свои я соблюдал днём и ночью, не позволяя себе нарушить их ни за что. Ни за какие, как говорится, коврижки. Ни в политическом, ни в моральном, ни в каком-либо другом аспекте. Скажем, принцип «до четырнадцати ноль-ноль ни грамма» я пронёс через всю свою несладкую жизнь. Через бурную молодость, сумбурную зрелость и так дальше. Возможно, я донёс бы его и до конечного пункта назначения, принцип свой этот. Если бы вокруг знакомые, друзья и родственники не начали совершенно неожиданно, неоправданно и без достаточных на то оснований умирать. И что самое неприятное — умирать безвременно, то есть вдруг. Вчера только с ним по телефону разговаривал, а то и выпивал по скайпу, а сегодня у него, видите ли, тромб оторвался или случился инфаркт миокарда обширный с предсказуемым летальным исходом. Вовремя, то есть совсем в глубокой старости, умер на моей памяти только дядя Илюша — муж маминой тётки. Лет двадцать назад он умер. А то и больше. В детстве я любил ездить к ним в Донецк, бывшее Сталино. Любил и одновременно ненавидел.
Любил потому, что там всегда были конфеты. Целая хрустальная ваза шоколадных конфет типа «Кара-Кум» и «Белочка». Дядя Илюша бывал по работе в Москве. Так что откуда конфеты, было понятно. Непонятно было, почему их не съедали сразу же, как только привозили. И почему они стоят на виду, и никто на них не претендует.
А ненавидел — потому что у них нужно было не есть, а ку-у-ушать. Дядя Илюша был сыном купца первой гильдии. Золотая молодёжь. Дружил с Игорем Ильинским. Пятнадцатилетним пацаном ушёл в революцию. На что отец сказал: «Погоди, ты ещё пожалеешь». Пожалел дядя Илюша в 37-м, получив свои десять лет и отсидев их в Воркуте. Но воспитание осталось. Поэтому «ку-у-ушать» — это был ритуал, акт, священнодействие. Обед состоял из закуски, супа, второго блюда и десерта. И на всё был свой прибор. Своя тарелка, своя ложка, своя вилка и свой нож. Для меня никаких послаблений не делали. Сидел я почему-то всегда напротив дяди Илюши. И он, черпая суп, всегда смотрел мне в глаза и всегда исподлобья. Я и без того понятия не имел, что, чем и как нужно есть, а под этим взглядом вообще скукоживался и канючил, что есть не хочу.
— Опять конфет объелся, — говорил дядя Илюша и взгляд от меня отводил.
Потом, когда он вставал из-за стола (мне позволялось встать только после него) и уходил в спальню отдохнуть, мама с молчаливого согласия тёти Жени меня докармливала — пожрать-то я, как уже было сказано, любил. Причём без всяких хитростей, с вилкой в правой руке и котлетой в левой. Делалось это не в комнате, а в кухне.
Потому что комната с кровати, на которой отдыхал дядя Илюша, просматривалась…
Но долгожителем был он один. Чего об остальных не скажешь. Остальные живут недолго. Пойди в таких условиях, соблюди свои принципы. А тут ещё, как назло, в ближайшем универсаме стали продавать свежие, прямо из какого-то моря, мидии. А за мидии я душу могу продать. Хоть дьяволу, хоть кому. Так что нужно меня понять: мало того, что все вокруг мрут, как мухи, намекая своими смертями на скоротечность и бессмысленность человеческой жизни, так ещё и мидии с пылу, с жару. Ну, то есть прямо из моря. Которые без рюмки — это просто смешно. Конечно, я принципом своим, скрепя сердце, пренебрёг и пожертвовал. В одиннадцать часов, сорок девять минут по Гринвичу.
Теперь вот мучаюсь. Вместо того, чтобы добавить. И попробовать понять, что делать с умершими друзьями и родителями? Они никак не становятся умершими у меня в сознании. Ощущение, что я их просто давно не видел. Хорошо это или плохо? Пока понять не получается. И ещё непонятно, что делать со временем уходящей жизни? Неужели ничего? Так просто всю жизнь ничего со временем и не делать, пустить его на самотёк? И если бы только это не получалось понять. Вот отец когда-то мне говорил: «Как ты не можешь понять? Мы просто верили. Ве-ри-ли!» Я ему отвечал: «Как можно было верить во всю эту дикую чушь?» «Верить можно во всё», — говорил отец.
Я и мои друзья уже не верили ни во что и никому. И дожили так, не веря, до седых волос, а некоторые даже не веря умерли. «Как можно ни во что не верить?» — говорят теперь нам наши благодарные потомки. «Да так, — отвечаем мы, — и можно». Потомки говорят: «И что, совсем ни во что? Ни в чёрта, ни в дьявола?» «Ни во что», — говорим мы. «Это ужасно, — говорят наши потомки. — Ужасно. — И говорят: — А вот мы — верим!»
И я, кажется, знаю, что спросят у них когда-нибудь их дети. Они спросят: «Как можно было верить во всю эту дикую чушь?»
Что ответят своим детям наши потомки, я тоже догадываюсь. Но что от этого толку. От догадок никакого толку обычно не бывает. И мало что от них зависит. И к слову, что от чего зависит — это ещё одна загадка. Может быть, самая главная. И ответ на неё, мол, судьба у нас такая — дурацкий. Потому что судьбы у всех, то есть у всех абсолютно, разные. Возьмём для примера Родичева и Родченко. Родичев не поступил в институт, убил человека, отсидел десять лет, вышел, на радостях напился, поехал кататься на моторной лодке, перевернулся и утонул. Судьба же Родченко, наоборот, мне не известна. Возможно, она сложилась счастливо. И даже счастливее, чем у других. Или хотя бы, чем у Родичева. Да точно сложилась, иначе и быть не может. Если, конечно, Родичев убил не его, а кого-нибудь другого.
Или, допустим, судьбы Шурика и Вовика. Шурик был толстоват. И почти всегда один. Родители работали, а он приходил из школы и жил. Да и в школе держался особняком. Не потому, что хотел, а по разным причинам. За партой сидел один — так его посадила учительница, не найдя пары. На перемене бродил один, чтобы его не дразнили пузырём, а на физкультуре вообще все над ним издевались. Не мог он перепрыгнуть через козла и влезть под потолок по канату. Не мог. И ему было от этого тоскливо. А остальным весело. Физрук Фёдорыч всеобщего веселья не пресекал. Говорил «жрать меньше надо, тогда перепрыгнешь». А у самого живот через ремень свисал, как мешок. Но Фёдорыч старый был. А в войну, говорили, он в разведроте служил, в немецкие окопы за языком ходил и тому подобное. И живота у него тогда не было. И позже не было. Потому что он долго питался впроголодь, играя в волейбол за какую-то сборную. То ли города, то ли области, то ли даже всей Украинской ССР. И всё это правда, а не вымысел. Сила у Фёдорыча была сумасшедшая. Несмотря на пенсионный возраст и трудно прожитую жизнь. Однажды он дал Шурику щелбан, чтоб не выпирал животом из строя, и Шурик потерял сознание. Фёдорыч поначалу испугался, думал — убил пацана. Но, слава богу, обошлось. Очнулся Шурик. И вырос большим, здоровым, умным и счастливым. Хотя и отсидел своё. При этом последняя жена была у него на семнадцать лет моложе. И дочь родила ему способную. И по музыке, и по фехтованию, и в целом.
А Вовик, тот совсем был похож на гору. С детства. И работал водителем троллейбуса. Единственного в городе. Пробовал он торговать наркотиками, но бросил. Побоялся. Ему же садиться нельзя. Он же не только толстый, но и насквозь больной. И как он на водительской медкомиссии все свои болезни утаил, неясно. Видно, троллейбус в городе совсем водить было некому. У него аритмия, нарушение обмена веществ, давление и дурная наследственность по диабету. Наверно, потому, что родили его родители поздно. У них единственного сына молнией убило. Он с товарищем пошёл на Днепр, рыбу ловить, началась гроза, и его убило. А был он тогда уже в десятом классе средней школы. И родители решили родить себе другого ребёнка, чтобы род свой продлить и продолжить. Родили Вовика, а он получился неудачным, с самого начала болел всеми болезнями. А ел, как взрослый не ест. Десяток котлет мог за раз употребить. Плюс, конечно, гарнир и тарелку борща. Мать говорила: «А что делать, если мальчик хочет кушать? Не кормить?» Но теперь мать умерла. От диабета. А за нею следом и отец умер. Причем как-то неожиданно и ни от чего.
И Вовик живёт в квартире один. Детей у него нет. Жены нет. Потому что никто за него замуж не идёт. Из-за его болезней и неподходящей для супружеской жизни комплекции. Он кому уже только себя не предлагал. Всем предлагал. И всё без толку. Так что род его, видимо, останется не продолженным и на нём прервётся.
Тоже судьба? Может, и судьба. За что она ему, а не кому-то другому, почему не тому же Шурику досталась? Кто их распределяет, эти судьбы? Кто определил, что дирижёр нашего симфонического оркестра Савва Блинов должен умереть в расцвете сил и лет? Вернее, сначала попасть в столицу, руководить оркестром украинского радио, а потом умереть? Почему, зачем? Чтобы на Байковом кладбище быть похороненным с понтами? Среди политиков и бандитов? Так о понтах он всегда говорил, что: «Дирижёра без понтов, конечно, быть не может. Понты — важнейшая часть профессии. Но — и это главное (!) — далеко не главная часть. То же и в жизни». А остался бы в городе как все, может, жил бы по сей день, припеваючи. И я бы не узнал совершенно случайно о его смерти. Хотя… Видимо, пришло уже моё время узнавать о смертях. О смертях старых знакомых. Или помирать самому. Чтобы об этом узнали они. Выбор, к сожалению, небогат. И опять же не от тебя зависит. От тебя вообще мало чего зависит — тобой вечно кто-нибудь управляет. То законы природы вкупе с наследственностью до седьмого колена, то его величество случай, то господь бог, которого нет. Или есть?
Работала на стрелочном мехзаводе некая Валентина Викторовна. Милая женщина из Улан-Уде, образование среднетехническое, член партии не замужем. Она как приехала после техникума в город, как села за стол в отделе главного механика, так из-за этого стола через тридцать пять лет и на пенсию ушла, после чего стол тут же развалился. В общем, ценный социалистический кадр, труженик и общественник. И почему-то страшная антисемитка. Она и сама не знала, почему. Никаких конкретных претензий к евреям у неё не было. А антисемитизм был. Наверно, по наследству передался. Или заразилась от товарищей по партии. В том же отделе работал Сеня Миняйло. К несчастью, уже покойный. Был он специалистом по беспилотным летательным аппаратам, что неважно, и очень любил просвещать Валентину Викторовну. Читал ей стихи Баркова, четвёртый том Аристотеля и «Конармию» Бабеля из очень старой книжки без обложки. К тому же грозился притащить на работу «Архипелаг ГУЛАГ». А ещё он рассказывал ей, члену, как уже было сказано, партии, о боге. В том числе об Иисусе Христе. И вынужден был сообщить пикантную подробность его биографии, мол, еврей. Валентина Викторовна, естественно, не поверила. Тогда Сеня принёс ей бабушкино Евангелие и с выражением начал: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду». И далее по тексту, вплоть до «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос». Партийная Валентина Викторовна сначала офигела, потеряв на время дар речи, а потом сказала: «Ты пойди у церкви это людям почитай. Они тебя на части разорвут». То есть не мог по её мнению этот так называемый евангельский текст не оскорбить чувств истинно верующих. «Абрам родил Исака» — надо ж такое придумать. Педерастия какая-то еврейская, честное слово. И бог, который то ли есть, то ли нет, за антисемитизм её страшно наказал. Потому что, достигнув пенсионного возраста в пятьдесят пять лет, она всё же вышла замуж. За еврея — Исаака Моисеевича Когана. И очень долго жила с ним в любви и счастье до самой своей естественной кончины, а когда настала свобода вероисповеданий, ходила с ним в синагогу. Не каждый день, а по праздникам, но ходила. Так что, может, он и есть, всемогущий бог. А если его нет, всё равно есть кто-нибудь потусторонний и всесильный. И от него не уйдёшь. При всём желании. Как не ушёл, допустим, Лёвка Мураев. Он при ведении бизнеса своего так называемого всех без разбора обводил вокруг пальцев, обувал и кидал, как последних.
Он этой способностью — кидать и обувать — чуть ли не с рождения обладал. И меня этому искусству обучить пытался. Благодаря Лёвке я свои первые деньги не заработал, а украл. Пять копеек новыми. И было мне тогда лет восемь-девять. Летом, когда родителям не удавалось достать путёвку в пионерлагерь, мы каждый день ходили дворовой компашкой на пляж. На обратном пути есть хотелось так, что уши пухли. Чаще всего спасались фруктами, свисающими из-за заборов в частном секторе. Но если с нами бывал Лёвка, мы пировали. Лет в четырнадцать он сел по малолетке, месяца через три вернулся, сказал, что отпустили. Но назавтра за ним приехала милиция, оказалось, он сбежал из колонии. А снова возник Лёвка только в конце восьмидесятых. Так вот он проделывал такой фокус. Заходил в «коминтерновский» гастроном, подходил к прилавку, на котором стояла тарелка с мелочью для сдачи, тыкал пальцами в монетку на этой тарелке, причём так, что продавщице казалось, будто он её туда положил, и говорил: «Буханку чёрного». Или: «Три городских». То есть он умудрялся ткнуть не абы куда, а в двадцать копеек, и получить сдачу. Чёрный стоил четырнадцать копеек, а городская булка — шесть.
И дёрнул меня как-то чёрт восхититься его умением и бесстрашием. Лёвка завёлся. Мол, это ж просто, как не фиг делать. «Самое главное, — говорил, — не бздеть. Завтра накормишь нас всех ты».
Я пытался как-то отбояриться, говорил, что я не смогу. Но он несколько раз показал, как это делается, заставил потренироваться, и назавтра в гастроном запустили меня.
Честно говоря, я сильно это самое, ну, в общем, боялся. Что поймают меня. Но делать нечего. Пошёл. Слава богу, передо мной стояло ещё человека три. Успокоился. Заранее наметил монетку. Сложил пальцы, как учил Лёвка, и ткнул ими в пятак. После чего услышал откуда-то со стороны свой голос: «Мне бублик». Накормить этим бубликом всю компанию, ясное дело, не удалось.
А Лёвка, уже в девяностых, доигрался до того, что уважаемые люди в среде воров и властей предержащих сказали ему, мол всё, терпение наше кончилось и не жить тебе, гнида, на этом свете. Недолго думая, он собрал манатки, цепь килограммовую золотую на шею повесил в качестве запаса про чёрный день и в тот же вечер исчез. Свалив то ли в Панаму, то ли в Доминикану. В общем, туда, где у него основные деньги в банках содержались. И летел, чтоб следы замести, с тремя пересадками в Европе и Азии. А там домик себе купил маленький, говорил «у меня прямо на берегу океана виллка». Думал: «Хрен вы меня тут достанете, хрен до конца дней моих найдёте». И его не достали. Те, кто обещал. Просто он выпил, расслабившись, лишнего рому, пошёл ночью в океан купаться и в нём утонул. Тихо, мирно, под звёздами и при луне. Без участия кредиторов и тому подобной человеческой дряни. Мне девка его возлюбленная всё это потом рассказала лично. Всё жаловалась, что ей кроме цепи и не досталось ничего. Потому что она была Лёвке по всем законам природы никем. Любовницей была временной, а это даже не седьмая вода на киселе. Так что и деньги его большие, и виллка эта пресловутая на берегу не достались, считай, никому. Завещания-то Лёвка составить не озаботился. Это так, между прочим.
И ладно бы влияло на жизнь нашу и судьбу нечто важное и всесильное типа того же океана или, как говорят, провидения. А то ведь такие мелочи порой вмешиваются, что просто тьфу. Но возможно, нам это только кажется, что вмешиваются, а на самом деле ничто ни во что не вмешивается и ничто ни на что не влияет.
В молодости была у меня любимая женщина. И не один год она у меня была. В этом качестве. И вот, у неё на кухне потёк кран. Ну, бывает. Краны, они как время — имеют свойство течь. И я, естественно, из любви и других сильных чувств тут же снял с себя парадные джинсы, надел какие-то старые шорты и бросился этот кран чинить. Руки же у меня золотые. Хотя и не совсем оттуда растут. И вот, чинил я, значит, этот кран, чинил, пока невероятными усилиями воли, ума и всего прочего не починил. В смысле, починил. Женщина эта, которая любимая, смотрела на меня с восхищением, дети её практически стоя мне аплодировали и даже кошка подошла и выразила свои тёплые чувства трением о мою ногу.
И я, ощущая себя триумфатором, снимаю с себя торжественно вышеупомянутые шорты, натягиваю джинсы — настоящий Wrangler — и вижу, что они от колена до бедра цветочками вышиты. Разноцветными. Красными, синими, зелёными — всякими. Красиво — сил нет.
Я говорю:
— Что ж это, — говорю, — такое и как я должен понимать эту неожиданную красоту? Которая мир, может быть, и спасёт, а меня погубит.
А женщина моя, значит, любимая, мне отвечает, мол, нервничала я, пока ты кран разбирал на части. Думала, обратно ни в жизнь не соберёшь. А когда я нервничаю — ты же знаешь — я вышиваю. Другие жрут всё подряд, а я что попало вышиваю. Вот джинсы твои мне случайно и подвернулись.
Я говорю:
— У меня же сейчас важная деловая встреча. Можно сказать, судьбоносная. Меня же, — говорю, — с цветочками на ляжках не за того принять могут.
А она говорит:
— За кого не за того? И что, — говорит, — тебе не нравится моя вышивка?
— Вышивка, — говорю, — мне нравится, но встреча же. Важная. Жизнь, можно сказать, решается.
В общем, заставил я её эти цветочки безжалостно с бёдер спороть.
Сидит она, помню, порет — а из глаз слёзы ручьём. Что понятно — такую красоту своими руками изводить. Я тоже сижу раздетым до пояса снизу и чуть не плачу. Поскольку порет она их медленно, и я могу опоздать.
А кончилось всё, как обычно. Прибежал я на судьбоносную эту встречу минута в минуту. А судьбоносец мой не явился. Просто не явился, и всё. И судьба моя прошла стороной. Или совсем не туда свернула. Или вообще, как говорится, не состоялась.
И вышло, зря она мне цветочки с джинсов спарывала, зря старалась, зря плакала. Цветочки были красивые. Такие даже в Инстаграме не сразу найдёшь.
Я впускаю вернувшегося кота, кормлю его и спохватываюсь, что вечер на носу, а я так и не обедал. «Надо сходить в кафе, — думаю я. — На проспект. А что, могу себе позволить. Раз в жизни».
На улице вроде бы ещё не темно. Хотя и пасмурно. А свет уже загорается в окнах жилых домов. То там загорится, то здесь. То вдруг снова погаснет. И почему-то вокруг очень тихо. Так тихо бывает только на кладбище, когда оно выходное. Даже ветра не слышно. Иногда проедет машина. С грохотом. И опять тихо. Только светофор моргает, постукивая своим реле. И снег вдруг сорвётся сквозь дождь. Бесшумно. И растает в дожде. Но мне снег не мешает. И дождь не мешает. А случайный свет в окнах даже помогает. Не влезть в глубокую лужу. И не промочить носки.
Да, всё забываю сказать на всякий случай. Фамилия моя Шток. Немецкая фамилия. Доставшаяся мне от предков. Скорее всего, от далёких. В ближних предках никаких немцев быть у меня не могло. А в дальних… Кто вообще знает, кем были наши дальние предки. Злые языки утверждают, что фамилия эта никакая не немецкая, а наоборот, еврейская. Но и евреев в недавних предках у меня, кажется, нет. К сожалению. Ну, а в давних, говорят, у всех евреи есть. Так или иначе. Да оно и в ближних-то. Как у того же Бори Полёвкина. Который был сволочью, что неудивительно. Потому что на его месте любой бы ею стал. Даже ангел какой-нибудь шестикрылый. А человеку сам бог велел. Вот многие будут смеяться, мол, пустяки, а попробовали бы они быть рыжими, и чтоб в веснушках всё тело. И голова, и ноги, и все другие части и органы. А Боря был не только рыжим, но ещё и лопоухим. Кроме всего этого у него был нос крючком, что делало его похожим на самого настоящего еврея с улицы Керосинной. А кем-кем, но евреем-то Боря точно не был. То есть вернее он им был, но не совсем, что ли, не однозначно. Мама-то у него оказалась в конце концов еврейкой, как полагается. О чём никто не знал. Ни одна живая душа не знала. И Боря тоже о мамином происхождении не догадывался ни сном, ни духом. А похож был на еврея. И на маму, конечно, похож.
Потом-то он всё узнал. Сама мама ему и сказала. Перед смертью. Раньше не отважилась. Думала, это Борю оскорбит и обидит. Но он ей ответил: «Эх, мама-мама. Что же ты молчала столько лет? Да я бы давно уже в Америке проживал или, на худой конец, в Израиле. А теперь в Америку нас, русских, не пускают, пиндосы проклятые». Правда, мама этого уже не слышала. На словах «эх, мама-мама» она умерла.
Доказывал Боря, что мама у него нужной национальности, долго. Поскольку она, как все порядочные евреи, родилась в Бобруйске. И он писал в этот белорусский Бобруйск письма, а ему на них официально не отвечали. Оно и понятно — заграница же. А потом ответили всё-таки и прислали выписку из книги, куда с незапамятных времён записывали акты гражданского состояния всех бобруйцев. И там значилось, что таки да, мама у Бори была никакая не Рита, она была Рива. Мало того, она была Рива Хая Геня и фамилию имела Гершенгорн. А Полёвкиной стала уже во втором или третьем замужестве. Когда за Бориного папу замуж вышла. Папа у Бори был чистокровный, потомственный Полёвкин. Что да, то да.
Но Боря все права имел в этот их Израиль уехать. Несмотря на папу. После того, как доказал высокое происхождение своей мамы. А его туда не пустили. Он как честный человек и как последний дурак написал в анкете, в графе «вероисповедание», — православный. Потому что он же был крещён в купели. Втайне от коммунистической партии Советского Союза и других правоохранительных органов. А также и невзирая на покрытую тайной маму. Теперь можно было об этом смело говорить всем в глаза. И Боря везде где мог так прямо и говорил. И даже заявлял. А его за эту прямоту в Израиль не приняли. И что самое интересное, в Германию тоже. Непонятно за что без объяснения причин. Может, у евреев с немцами общая база данных на бракованных евреев заведена? В общем, неясно.
Так что Боря Полёвкин остался жить там, где и жил, только происхождение себе зря испортил. Пойди, не стань при таких делах сволочью.
Правда, те, кто Борю знает давно, утверждают, что он всегда ею был, с рождения. Сволочью, в смысле. И ещё какой!
А я, значит, иду медленно, никуда не спеша. Я гуляю, совершая для пущего аппетиту вечерний моцион. По улицам и переулкам, вдоль кривоватых стен, вдоль обшарпанных фасадов — к проспекту. Я не заглядываю в окна первых этажей. Когда-то, в молодости, мне хотелось туда заглянуть. И я это иногда делал. Сейчас не хочется. Я не ожидаю увидеть там ничего интересного, ничего нового. Хотя, конечно, по сторонам я поглядываю. Не из любопытства. По привычке. Сейчас я вижу, как тётка на нижнем балконе развешивает памперсы, и они болтаются на ветру. «Не высохнут, — говорю я себе, — в такую погоду. Конечно, они не высохнут. Зря только стирали».
В руках у меня палка. Вернее, трость. С ней я чувствую себя устойчиво. И уверенно. Особенно после того, как на меня напали злые собаки. Коварно напали, выскочив из темноты. Но у меня и тогда в руках была моя палка. И я их отогнал. Несмотря на сильный испуг и почтенный возраст. Если бы на меня напали люди, палка не помогла бы. А от собак прекрасно защитила. Собаки полаяли, полаяли и отстали.
Гуляю я каждый вечер. Чтобы не было пролежней на жопе. Именно так, несмотря на некоторую свою интеллигентность, я выражаюсь. Потому что я не кому-то это говорю, а себе. Продолжая свой бесконечный диалог с самим собой. В последние годы я веду только этот диалог. Если, конечно, у меня не возникает какой-нибудь насущной потребности говорить с людьми. Обычно эти люди бывают при исполнении своих обязанностей. Почтальон с пенсией, участковый врач, аптекарша, бухгалтер ЖЭКа. С ними говорить поневоле приходится. И я с ними говорю. Но редко. Стараясь не быть многословным и не утруждать их собой. Правда, они и не утруждаются. У них таких, как я, штоков, много, со всеми говорить — слов не хватит.
Я тоже от разговоров с собой получаю гораздо больше удовольствия, чем от бесед с посторонними. С собой я могу говорить обо всём и подолгу. О жизни могу говорить и о смерти. А также и о политике. Но могу и молчать. Зависит от настроения и состояния здоровья. И от того, что я делаю в данный конкретный момент. Готовить себе пищу в молчании я не люблю, а есть предпочитаю, как привык с детства. Произношу тоном своего папы: «Когда я ем, я глух и нем», — и приступаю к трапезе. Тщательно жуя.
Иногда я пытаюсь беседовать с котом. Но он меня собеседником не считает. И говорить со мной отказывается наотрез. Раньше в таких случаях я говорил себе: «Почитать что ли, книжку? От нечего делать. Или написать?» И садился с книжкой к столу. Или писать садился. Тоже к столу. Но это раньше. А сейчас книжек я не пишу. И не читаю. Надоели мне книжки. Даже не помню, какую и когда я прочёл последней. А написал — помню. Но тоже приблизительно. Там было про одну семью. Папа — еврей, мама — немка. Двое детей, сёстры. Началась война. Папу забрали воевать. В Одессу вошли румыны и немцы. Заработали рестораны, театры, стала выходить украинская газета. Студенты продолжили учёбу в университете. С добавлением новых предметов — румынского языка (немецкий и так учили) и Закона Божьего. Только евреев вылавливали. А остальных нет. Мама сказала дочерям: «Запомните. Вы — немки. Ясно?» «А как же папа?» — спросили дочери. «Никак. Нет у вас папы. Забудьте». И немцы, значит, вывезли маму с дочерями в Германию как фольксдойчей. Дочери пошли в школу. Благо языку мама их в своё время выучила. Хорошо питались — шоколад каждый день. С удовольствием кричали «хайль Гитлер» и участвовали в парадах. Им и в Одессе нравилось ходить на парады. Потом город начали бомбить. Шоколад исчез. Несколько раз на дню надо было бежать в бомбоубежище. В школу они теперь ходили, но не всегда. Хотя «хайль Гитлер» всё ещё кричали.
А потом пришли русские. И стало совсем плохо, как становится везде, куда приходят русские. Мама пошла к ним и сказала, что она с дочками не немецкие немцы, а советские немцы, и что фашисты силой вывезли их из родной Одессы. В то время как её муж геройски воевал на фронте. И попросила отправить их домой. Но она могла бы и не просить. Их бы и так отправили. В Казахстан.
Там их чудом нашёл муж и сказал: «Поехали в Одессу». Но они никуда поехать не могли. Они же немцы. Он ходил по инстанциям, кричал, что воевал, что у него ордена и грамота от товарища Сталина лично, и что вся семья его погибла — и родители, и братья, и сёстры, — и что дети его никакие не немцы, а евреи. Но ему сказали: «Это вы так думаете, а на самом деле они — немцы. Так что живите в своё удовольствие здесь. Чем вам здесь плохо? Здесь такой же Советский Союз, как и в Одессе».
И муж начал пить. А напившись, кричать жене и детям: «Фашистские прихвостни! Немецкие подстилки». И лупил их чем попало. Естественно, дочери возненавидели отца. Мало того, они стали ярыми антисемитками. А мама их и раньше была, даром, что муж еврей.
В общем, бросил он их. И уехал в свою Одессу. И там уже спился окончательно. Мать в свой час умерла. А дочери в девяностом году уехали. Одна в Израиль, другая в Германию. Они и по характеру были — одна педантичная, аккуратная до отвращения немка, а другая — слегка неряшливая, безалаберная еврейка. Только в Израиль уехала первая, а не вторая, а в Германию — вторая, а не первая. И «еврейке» не нравилась Германия, а «немке» Израиль. Такой, значит, был у меня когда-то написан последний рОман.
Зато на старости лет я освоил компьютер. И с тех пор читаю только с экрана. Потому что там шрифт крупнее. И вообще, любой можно сделать шрифт, шрифт каких угодно размеров. Вот я и делаю. И читаю при своем зрении без очков. И обсуждаю прочитанное с собою же. Неважно, что именно. Что читаю, то и обсуждаю. Беспорядочно и бессистемно. Насчёт так называемого братства России и Украины иногда читаю. И думаю, что если (несмотря на женский род) они и братья, то условно Каин и Авель, но не совсем. Так как Украина совершенно не претендует на роль убиенного Авеля. Россия роль Каина сыграть хотела бы, да кишка тонка — в смысле, ни мозгов для братоубийства нет, ни сил, ни умения. Так что условный Авель останется в живых. Чего не скажешь об условном Каине.
Новости тоже люблю читать. Вчера Трамп произнёс речь и станцевал со своей Маланкой чуть ли не падеспань. После чего тысячи женщин по всему миру вышли на марши протеста. Казалось бы, с чего вдруг? Женская логика — потёмки. На Черкащине два сантехника утонули в канализации с жидкими нечистотами. Ну не в твёрдых же нечистотах было тонуть сантехникам. А до того, как выйти сегодня с целью пройтись и поесть, я, невзирая на время года, читал рекламу летнего отдыха: «Горящие туры, полёты, отели». Читал, рассматривал картинки. И говорил сам себе:
— И почему это у них на фотографиях непременно пальмы и кактусы?
И сам же себе отвечал:
— Пальмы — впечатляют. Когда аллеей вдоль моря.
— Но можно и вдоль океана. Хотя на фото не отличишь. Море, океан…
— И ещё крупным планом еда в ресторане, — говорил я, разглядывая куски чего-то непонятного в огромной тарелке.
— Что делать, так представляют себе рай на земле отдыхающие.
— Отдыхающие от средней полосы России и тому подобных заснеженных мест, — уточнял я.
Такой, значит, происходил во мне привычный диалог. А потом я выключил компьютер и сказал себе с голодухи: «Пора пройтись. Чтобы не думать о рае. Ни о земном, ни о небесном. И вообще, не думать. Перед сном это полезно». Мысли-то перед сном в моём возрасте не очень весёлые. И хорошо, если только перед сном, а не вместо него.
Но сегодня мне и на прогулке не повезло с мыслями. Дёрнул меня чёрт пойти на проспект через двор. Обычно я хожу в обход, по улице, а сегодня решил срезать угол. И как только вошёл во двор этот проходной, так и остановился.
— Смотри, — говорю, — они выбросили на помойку рояль. И книги. Кем нужно быть, чтобы выбросить рояль и книги?
— Но они вот и телевизор выбросили, — я попытался себе возражать. — Нормальные люди.
— Телевизор у них, наверно, непоправимо сломался. Или морально устарел.
— Рояль тоже устарел морально? Да и книги…
— Нет, рояль устареть не может. Тем более морально. И книги не могут. Если это, конечно, настоящие книги и настоящий рояль.
— Ну может быть, умер кто-то одинокий. Или всю семью переживший. И новым хозяевам нужно было сделать евроремонт и сдать недвижимость новым квартиросъёмщикам. А с книгами и роялем её разве сдашь?
— Только и остаётся надеяться, что этот кто-то умер. И он не виноват в том, что его рояль и его книги выкинули на помойку. Не может же быть человек виноват, если он умер.
— Да, умер — это алиби.
— Алиби. Я согласен.
Я постоял у кучи, открыл палкой одну книгу, другую, поднял крышку рояля и нажал пальцем на чёрную клавишу. Рояль отозвался низким фальшивым звуком…
В кафе после этого я уже не пошёл. Повернул обратно к дому. Я шагал мелко, стуча палкой, и думал, что когда умру я, мои вещи тоже все выкинут. И книги выкинут, в том числе и мои книги, и картины художников, с которыми я всю жизнь дружил, а теперь никого из них нет, и мои детские фотографии, где я снят с папой и мамой в Крыму. Да всё выкинут, всё. И всё на помойку. Куда же ещё? А главное — выкинут моего кота. Если я умру раньше, чем он.
— Хорошо, хоть рояля у меня нет, — говорил я себе. — Очень хорошо, что нет у меня рояля. С роялем было бы всё гораздо хуже.
Но худа без добра не бывает. На помойке я окончательно осознал, что завещание таки не повредит — ну мало ли. Опять прикидывал, кому может пригодиться оставшееся после меня и моей жизни, думал, что и как в нём написать, в завещании этом несчастном, ломал голову, и в конце концов написал: «Прошу меня, — написал, — не кремировать. Если можно». И всё. Больше ничего писать не стал. Потому что зачем?