Жизнь, она всегда и у всех делится. И обычно — на «до» и «после». До войны и после, до Чернобыля и после, до свадьбы и после, до смерти и после.
У меня она, жизнь, тоже разделилась. На «до эмиграции» и «после». Поэтому и книжка эта состоит из двух соответствующих частей. Только сначала «После», а потом «До». Так что в первой части книги — то, что написано в последний год жизни «там», в немецком плену, а во второй — повесть и рассказы последних лет «здесь», на родине.
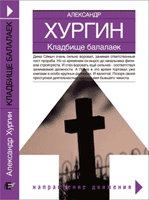
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОСЛЕ
Везде люди живут, или Иммигрантские рассказы
Бег и голод
По утрам Дима Сёмыч бегает, а каждый понедельник голодает. Потому что он пристально следит за своим здоровьем. Куда деваться? У него молодая жена. То есть она давно уже не молодая, но по-прежнему на двадцать лет младше Димы Сёмыча. Поневоле будешь за собой следить. Иначе придётся следить за ней. Да и общему их сыну всего двенадцать лет. Надо его вырастить при жизни или не надо? А на молодую жену какие надежды? На молодую жену никаких надежд нет и быть не может.
Поэтому он и бегает в свои шестьдесят. Поэтому и голодает. Жена над ним издевается:
— Голодающий физкультурник, общество «Трудовые резервы».
Но Дима Сёмыч кладёт на жену с прибором, продолжая бегать и голодать. Бегать — каждый день, а голодать, конечно, нет. Голодать — каждый понедельник. Всё равно понедельник — день тяжёлый. Хотя, тут понедельники ничем не отличаются от вторников или суббот. Он выбрал днём здорового голода понедельник. Так ему, может быть, захотелось.
И чтобы голодать было легче и веселее, Дима Сёмыч ходит в парк. Он ходит туда сидеть. Обычно он сидит там со Львом. Лев — это имя, а ни отчеством своим, ни фамилией Лев с окружающими не делится. Он считает, что в объединённой Германии и Европе человеку достаточно имени.
— Зачем вам моя фамилия? — говорит Лев новым знакомым, если таковые у него откуда-нибудь появляются. — Я же не во всесоюзном розыске.
Диме Сёмычу тоже не нужна его фамилия. Потому как он не новый знакомый, а старый. Они ещё в Киеве жили в одном подъезде, на одном этаже. И двери у них были напротив — глазок в глазок. Так что Дима Сёмыч называет Льва по старинке Лёвкой и знает, что фамилия Лёвки «якобы Шахиран». Когда-то, очень давно, у Лёвки была паспортистка. В порыве страсти она подправила его фамилию. После чего Лёвка из нормального Шахермана с Подола превратился в загадочного, как ему казалось, Шахирана. И поступил в КГБ.
Здесь Лёвка и Дима Сёмыч не живут в одном подъезде, они живут в разных домах. Хотя и в одном районе. И ходят сидеть на скамейке в один парк.
— А помнишь, — говорит Дима Сёмыч, — как мы соседствовали на улице Некрасовской? — Хорошо бы и тут жить вместе, в смысле, рядом.
— А чего хорошего? — говорит Лёвка. — Я тебя как соседа и в Киеве терпеть не мог. Чуял, что ты сволочь.
— Классовым чутьём? — говорит Дима Сёмыч.
— Нюхом, — говорит Лёвка.
Да, нюх Лёвка имел тонкий. Не зря он в КГБ состоял на хорошем счету. К счастью, его оттуда выгнали без права служить социалистической родине где бы то ни было. И Лёвка, уважаемый человек, капитан органов в отставке, стал вынужденно торговать. Дефицитными тогда книгами. И валютой. Расстрельная статья Лёвку не останавливала.
— Нас, чекистов, ничем не остановишь, — говорил он. И торговал валютой направо и налево.
И книгами тоже торговал. Он же был из интеллигентной семьи. Его мама заведовала Домом культполитпросвета. Она имела среднее музыкальное образование и могла сказать, какой костюм носил на себе Пётр Ильич во время работы над первым концертом Чайковского для фортепиано с оркестром.
А сейчас и Лёвка, и Дима Сёмыч сидят в парке. Среди стариков и детей. Дима Сёмыч при этом ещё и голодает. Потому что у него молодая жена. Сегодня с ними, на краешке их скамейки, сидит какой-то тип. Сидит и прислушивается. Делая вид, что кормит птиц, которые благодарно гадят на него, на Лёвку и на Диму Сёмыча.
— Эх, то ли дело в Киеве, — думает Дима Сёмыч. — В Киеве птицы так себя не ведут.
Лёвка думает примерно то же.
Они думают и молчат.
В Киеве Дима Сёмыч работал прорабом. Работал много и, конечно, сильно воровал. Он сам себе удивлялся — как сильно он ворует. Поскольку в сущности был честным и порядочным человеком. Его даже приглашали к одному настоящему вору в законе — очень большому авторитету в преступных и милицейских кругах — на праздничный чифир. Подчинённые вора, понимая, что чифир в чистом виде покажется Диме Сёмычу слишком горьким, нажарили для него картошки. И всё это в знак уважения к честности и порядочности Димы Сёмыча, оказавшего вору неоценимую услугу градостроительного свойства.
Да, Дима Сёмыч очень сильно воровал, занимая ответственный пост прораба. Но со временем он вырос до начальника филиала стройтреста. И стал воровать ещё сильнее — соответствуя занимаемой должности. А Лёвка в это время торговал уже книгами в особо крупных размерах. И валютой. Позоря своей преступной деятельностью честное имя бывшего чекиста.
И вот, как-то во сне начальник филиала стройтреста Дима Сёмыч услышал звонок в дверь. Кто мог в те старые добрые времена звонить посреди ночи в дверь к сильно ворующему человеку? Только советская милиция. Дима Сёмыч прокрался в чём был к двери и посмотрел в глазок.
За дверью стояли они. Все в фуражках, все сжимая подмышками дерматиновые папки. И рожи у всех — в высшей степени ментовские.
— Кто там? — Дима Сёмыч задал самый идиотский вопрос, какой только смог.
— Товарищ Лифшиц! Когда в последний раз вы видели гражданина Шахирана? — ответили вопросом на вопрос менты, намекнув, мол, здесь, на лестнице, вопросы задаём мы.
Трудно передать, как обрадовался Дима Сёмыч этому их вопросу. Он закричал в замочную скважину:
— Шаха Ирана?! Я никогда не видел шаха Ирана!
— Гражданин Лифшиц, — пригрозили менты, — не надо шутить с органами при исполнении служебных обязанностей. Когда вы видели вашего соседа Шахирана Л.Ю.
— Ах, Л.Ю. Я видел этого паразита две недели назад!
Тогда менты тоже нагнулись к скважине и задали более интимный вопрос:
— Товарищ Лифшиц, — спросили они, — вы советский человек?
— Дайте мне ваш телефон, — ответил им в скважину Дима Сёмыч, — и я вам это лишний раз докажу.
Менты посовещались и пошли на хитрость:
— Откройте, — сказали они. — Мы запишем вам номер.
— Суньте его в щель, — сказал Дима Сёмыч. — Я не могу предстать перед лицом уважаемых органов в одних трусах.
Короче, менты ушли не солоно хлебавши и оставив торчать в двери бумажку с телефоном 02.
— А помнишь нашу незабываемую встречу в лагере? — говорит Дима Сёмыч.
— Встреча как встреча, — говорит Лёвка. Но тут он не прав.
Месяца через три после визита ментов трест Димы Сёмыча выполнял в пионерлагере завода «Ленiнська кузня» строительные работы. Дима Сёмыч приехал проконтролировать их ход, а заодно на шару отдохнуть. И кого же он там увидел в кресле начальника лагеря? Он увидел там Лёвку, воспитывающего детей советских корабелов в духе преданности идеалам.
— Что ты здесь делаешь? — зашипел Дима Сёмыч. — Тебя же менты ищут по всему Киеву.
— Я здесь от них скрываюсь, — сказал тогда Лёвка.
А сейчас он говорит:
— Этот ариец следит за нами.
— Тебе надо бегать по утрам и раз в неделю голодать, — говорит Дима Сёмыч. — У тебя мания преследования.
Лёвка не любит советов и диагнозов.
— Мало я голодал на родине?! — кричит он.
— Ты голодал на родине?! — говорит Дима Сёмыч.
— Да, я на ней голодал, — кричит Лёвка и: — К тому же, — кричит, — молодой жены у меня нет. Не то что у некоторых старых козлов.
Действительно, жена у Лёвки чуть ли не ровесница Октября. Ей всё равно, какая у него мания.
Дима Сёмыч успокаивает Лёвку, говоря «ладно, голодал так голодал, нет так нет», и переводит разговор на немца:
— С чего ты взял, что он за нами следит?
— У меня нюх, — говорит Лёвка.
Дима Сёмыч про Лёвкин нюх помнит, но что можно вынюхать здесь его гэбэшным нюхом? Здесь его давно нужно было потерять за ненадобностью.
— Что, сука, следишь? — говорит Дима Сёмыч немцу, будучи уверенным, что тот по-русски ни бельмеса.
Немец, треща коленными чашечками, встаёт со скамейки, делает шаг вперёд и выхватывает из кармана красную книжицу.
— Удостоверение предъявлять в развёрнутом виде! — кричит Лёвка, заранее поднимая руки вверх.
Немец раскрывает документ и суёт его Лёвке в нос. «Майор Кофман, — читает вслух Лёвка. — Управление внутренних дел, г. Киев».
— Как тебе удалось вывезти ксиву? — удивляется он и тискает майора в вялых объятиях. — А я тебя за фрица принял.
Дима Сёмыч тоже рад встрече с живым киевлянином. Он тычет его кулаком в плечо, насильно, веселясь, обнимает.
— Где-то я тебя, — говорит, — гадость, видел. Ты не в ОБХСС служил?
Майор Кофман вырывается из объятий, топает ногами, и его коленные чашечки трещат всё громче.
— Так ты, значит, невинными детьми от нас прикрылся, как щитом? — дико орёт вырвавшийся майор, и все его птицы в ужасе разлетаются. — Валютчик, отщепенец, пидор! Я б таких, как ты, расстреливал без суда и следствия. И таких, как ты, Лифшиц, — тоже.
Тут Дима Сёмыч веселиться прекращает. Он всегда прекращает веселиться, когда майоры хотят его расстреливать. А майору Кофману становится нехорошо. Он хватает себя руками за грудь и аккуратно, задом целится сесть на скамейку. Его коленные чашечки трещат уже на весь парк.
— У тебя валидол есть? — спрашивает Лёвка у Димы Сёмыча.
— Откуда у меня валидол? — говорит Дима Сёмыч. — Ты же знаешь, я по утрам бегаю, как поц, а раз в неделю я голодаю.
Руслан и Людмила — 2
Впервые услышав эту сплетню, я сказал:
— Ну что за пошлость — Руслан влюблён в Людмилу и хочет взять её в жены! Нет, в действительности так не бывает. Слишком литературно.
Хотя… Иногда действительность такое выкидывает — никакая фантастика до такого не опускается. А если опускается, никто подобной фантастике не верит.
Забегая вперёд, скажу — оказалось, что здесь именно тот случай.
Руслан и Людмила — были соседями (тоже, надо сказать, звучит неплохо). Так распорядился насчёт их места жительства его величество случай. И жили они в одном доме, небольшом таком трёхэтажном доме. Третий этаж в нём занимал персонально хозяин — армянин, приехавший в Дрезден лет десять назад. Не очень давно он купил этот старый дом в плачевном состоянии. Отремонтировал его — как говорится, произвёл в нём капитальный евроремонт, — поставил на крышу тарелку для приёма ОРТ с РТР, и теперь в доме живут русские. А армянин считается немецким частным предпринимателем и владельцем немецкой недвижимости. Но армянин тут ни при чём. Армянин к делу не относится. Он сдал квартиры внаём и всё, на этом его высокая миссия окончилась. А кому сдавать — ему же всё равно, ему лишь бы квартплату регулярно вносили.
И вот, значит, одну квартиру сдал армянин, скрепя сердце, азербайджанцам — Розе Абрамовне, её мужу и сыну. Мужа звали, как Алиева — Гейдар. И фамилия у него была тоже, как у Алиева. А Руслан, он был сыном, но не Алиева, а Розы Абрамовны и её первого покойного мужа. Муж этот давно в Сумгаите умер от ошибочного огнестрельного ранения в живот. Роза Абрамовна выжила, потому что в неё мало дроби попало, а муж её не выжил. Хотя целились в неё, а не в него. Но ещё до своей безвременной смерти успел он привить маленькому Руслану беззаветную приверженность к исламу и любовь к Магомету лично.
Что подвигло правоверного мусульманина назвать сына Русланом — загадка природы, унесённая им в могилу. Или это Роза Абрамовна его Русланом назвала, — допустим, в честь одноимённого самолёта? Хотя по мне, так еврей Руслан — то же самое, что Руслан мусульманин.
Правда, сам Руслан считал, что он ещё недостаточно настоящий мусульманин, потому как имеет всего одну-единственную жену. Он, пока вызова от немецких властей дожидался, успел лишь одной женой обзавестись. Которая осталась теперь в родном Сумгаите. Одна жена осталась там у Руслана и одна дочь у неё на руках. Руслан же документы на выезд подал раньше, чем жена и дочь у него появились, конечно, немецкие эмиграционные власти на них не рассчитывали, и вызов им не прислали.
Уезжая, Руслан жене так сказал:
— Это даже к лучшему, что вы временно остаётесь. Нечего вам среди неверных делать.
Жена, конечно, по-женски заплакала. А Руслан сказал:
— Я буду приезжать, а когда найду на их карте город с мечетью, заберу вас к себе на ПМЖ.
Жена бросилась перед Русланом, как в кино, на колени, обняла его ноги — тоже как в кино — и закричала во весь свой голос:
— Поклянись!
— Чего бы мне это ни стоило, заберу! — сказал Руслан. — Клянусь Аллахом!
Пять раз в день Руслан протяжно молился. Он уже всех заебал своими молитвами. Намаз у него, видите ли, по расписанию. У него намаз, у мамы его шабат. А мы всё до мелочей слышим, как будто это у нас, а не у них, шабат с намазом, и мы при них собственноручно присутствуем.
Да, не думал я, что в старых немецких домах звукоизоляция полностью отсутствует. А то бы никогда рядом с Русланом квартиру не снял.
Наверно, хонеккеровская шайка хорошо это отсутствие использовала. Бедные немцы. Небось, не могли своей законной фрау слова сказать. Залезали под перину для частной беседы с глазу на глаз. А я удивлялся — зачем им такие толстые перины. Оказывается, для сохранения семейной тайны. Хотя, конечно, и для тепла. Это бесспорно.
Так они, значит, втроём и жили. Руслан, Роза Абрамовна и её второй муж Алиев. А самую большую квартиру в нашем доме (не считая этажа хозяина) занимала Людмила. Потому что семья у Людмилы была соответственно самая большая, из нескольких отдельных семей состоящая. Целый клан у неё был, а не семья.
Наш старший сын Мишка сразу же подружился с её старшей дочерью Устей. Когда они ещё только вселялись, подружился. И он прибежал со двора и стал радоваться, маша руками:
— Там их столько приехало! Очень там их приехало много. Два брата Усти — раз, мама и папа Усти — два, бабушка со стороны папы — три, отчим Усти и бабушка с его стороны — четыре! А ещё у них есть бабушка мамы Усти. Устина, значит, прабабушка, приехавшая, чтобы устроить здесь свою личную жизнь.
Всем этим дружным кланом они в наш русский дом и въехали. Чтобы в нём постоянно жить. И не только в нём, но и за его пределами, в том смысле, что появляться в общественных местах скопления людей, в лесопарках, скверах и так далее.
И всё бы у них было в порядке вещей. Если бы ровно через три дня после их приезда Руслан не влюбился в маму Усти. В Людмилу. Влюбился, несмотря на то, что два её мужа — бывший и настоящий — при сём присутствовали, и не одни, а со своими еврейскими мамами. И он сказал Людмиле при них, при всех:
— Выходи за меня замуж, женщина. Будешь моей любимой женой.
— Я же замужем, — сказала ему Людмила тоже при всех.
— За кем? За этим? Или за этим? — Руслан ткнул пальцем поочерёдно в отчима Усти и в её отца. — Прикажи, и я их зарежу.
— Не надо их резать, — сказала мама Усти. — Приказываю. Тем более что и ты, говорят, женат.
Этого возражения Руслан не понимал.
Он говорил:
— Да, я женат. Но только на одной жене. А ты будешь второй, любимой женой.
— Я старше тебя чёрт-те насколько, — говорила мама Усти, — и у меня трое детей.
— Дети — не проблема, — говорил Руслан. — Детей мы усыновим. Особенно мальчиков.
Мишка волновался за Устю с детской непосредственностью, но искренне.
— Что ты будешь делать, — волновался он, — если твоя мама выйдет за Руслана замуж?
— А что я должна делать? — отвечала Устя. — Был у меня один отчим, станет два отчима. Какая разница?
Устю во всём этом деле занимало другое. И она спрашивала Мишку как представителя сильного мужского пола:
— Ты скажи, — приставала она. — Вот что они в ней находят?
Мишка не знал, что они, то есть мужчины, находят в Устиной маме. А Устя его теребила:
— Вот тебе она нравится?
— Мне? — пугался Мишка. — Мне нет. То есть для мамы она ничего, нормальная, а чтобы нравиться — нет.
— Мымра она нудная, — говорила Устя, — а не нормальная, — и Мишке было неловко это слышать.
А тем временем Руслан не отступал. Он, наоборот, шёл в наступление засучив рукава, с открытым, можно сказать, забралом. И не давал Людмиле проходу, а всему её многочисленному клану — жизни. Он даже гулял с Людмилиной семьёй — десятым, хотя и ассоциированным, её членом. Идёт, допустим, семья в Дрезденскую галерею на обзорную экскурсию по залам — и он с ними, идёт в синагогу Песах праздновать — он опять сопровождает. Клянёт себя, голосит, прося у Магомета прощения — за то, что с неверными якшается, — но не отстаёт ни на шаг. Конечно, семье перед людьми неудобно было — за этого Руслана иноверного и за его среднеазиатские манеры.
Нынешний муж Людмилы справедливо возмущался:
— Я как законный на данный момент муж протестую и возражаю против. Зачем было сюда переться, чтоб какой-то абрек нас всех перерезал?
А бывший муж нынешнему вторил и подпевал, мол, я как отец твоих детей не позволю и не допущу. Ты можешь распоряжаться собственной брачной жизнью по-разному, но я со своей стороны всегда буду делать всё, чтобы мои дети попадали в хорошие руки.
Какое-то время Людмила терпела незаслуженные упрёки мужей. И мужья с их мамами терпели необоснованные притязания Руслана. А когда терпение у них как по команде лопнуло, поставили они Людмиле ультиматум: «Или мы, или он». Прабабушка Усти, которая уже приступила к устройству своей личной жизни, присоединилась к абсолютному большинству членов семьи и к их общему ультиматуму.
Людмила говорила им:
— Я-то тут при чём? И что я могу этому дикарю противопоставить?
— Ты бы хоть задницей не вертела, как вертолёт, — говорила прабабушка. — Не может она!
А мужья с мамами говорили:
— Не можешь, — говорили, — тогда мы круто меняем постоянное место жительства на город Лейпциг. А ты разводи тут шуры-муры со своим головорезом, замуж за него выходи по законам шариата — словом, поступай как знаешь, на своё усмотрение.
Пугали её, значит, и брали на арапа.
Зря, конечно, они это делали. Ставили Людмиле ультиматум и тем самым доводили её до ручки. Потому что она таким характером обладала, что лучше было её не доводить. И она свой характер им предъявила во всей красе:
— Ах так? — сказала. — Ну и валите. Все валите! Чтоб духу вашего тут не было.
— Ты серьёзно? — не поняли мужья и их мамы.
— Вполне! — сказала Людмила. — Даю вам на сборы неделю.
Мужья от неожиданности растерялись.
— Но мы тут прописаны и официально проживаем, — сказали они.
А мамы их сказали:
— К твоему сведению!
— Тогда уеду я! — сказала им всем Людмила.
Мужья с мамами переглянулись, а прабабушка сказала:
— Куда это ты уедешь! Стань вон в угол и стой! — это её приступ маразма сразил, и ей показалось, что Людмила ещё маленькая девочка с бантиками. Она-то знала её с рождения. Вот ей и показалось.
И Людмила весь клан своими руками разрушила, поставив свой вспыльчивый характер превыше всего. Забрала детей, села в поезд и уехала. В тот же, между прочим, город Лейпциг. У неё жил там старый знакомый одноклассник, который со школьной скамьи был в Людмилу тайно по самые уши влюблён. И она уехала, чтобы жить на первых порах у него. А там видно будет.
Руслан, конечно, попёрся за ней следом, с целью одноклассника зарезать, а Людмилу возвысить до звания любимой жены. Но и Руслану она сказала:
— Вали! — и сказала: — Ишь, гарем ему подавай! Я тебе покажу гарем — забудешь, как маму родную зовут!
— Маму мою Розой Абрамовной зовут, — сказал Руслан, побелев. — И этого я ей никогда не забуду.
Он хотел тут же на месте Людмилу убить — за дерзость, для женщины немыслимую. Но не убил. Из любви к ней. А только ещё больше побелел — хотя при его врождённой смуглости больше белеть было уже некуда. И в таком, побелевшем от гнева виде, он уехал на свою родину — в Сумгаит к жене и дочке. Уехал, зачал там с женой ещё одну дочку — и снова в Дрезден вернулся. Чтобы Людмилу найти и теперь уж окончательно — или зарезать её, как подобает мужчине, или на ней вторым браком жениться.
А первая его семья снова на родине осталась. Потому что не было у неё разрешения на въезд и потому что к поискам в Германии города с мечетью, пригодного для человеческой жизни, Руслан ещё даже не приступал.
Санёк
По рождению, происхождению и по велению сердца был Санёк потомственным патриотом. И когда автобус фирмы «Крафт» привёз его из великой России в бывшую ГДР на ПМЖ, он первым делом стал историю изучать. Не всю подряд историю, а историю Великой Отечественной войны с немецкими и фашистскими захватчиками. Ну, или не первым делом стал он её изучать, а вторым. Первым он показательный бракоразводный процесс устроил своей молодой жене. С которой от самого Урала считай до Берлина дошёл, а она от него ушла к другому, первому попавшемуся человеку в штанах. Этим человеком оказалась некая Маша. По национальности (что не главное и решающего политического значения не имеет) немка. Она сюда, в Европу, прямо из солнечного Ташкента репатриировалась, и все её звали тут Маша Ташкентская. За подлый нрав, а также за неразборчивость в связях и средствах. И Маша стала с женой Санька ещё в общежитии для переселенцев жить в аморальном и во всех других смыслах слова, практически средь бела дня, на глазах у широкой общественности. Понятное дело, Санёк этого безобразия не cтерпел — узнав о нём из уст добрых соседей последним. И он подстерёг жену свою в сопровождении развратной Маши и сказал ей по-мужски, горя глазами:
— Вон отсюда! — и рукой сделал так — вдаль наотмашь.
А она ему сказала:
— Куда вон, мудак, я ж давно от тебя ушла.
— Де юре? — сказал Санёк.
— Де факто, блин, — сказала жена. — Де факто. А на де юре, — сказала, — плевать я хотела. С высоты птичьего полёта.
На это заявление Санёк отвечал неожиданно великодушно — ладно, де юре я беру на себя. Меня любой суд страны и мира поймёт и простит. А значит, оправдает.
И вот, когда таким образом семья Санька распалась со скоростью света и тени, лишив его тыла в жизни, он оголтело погрузился в историю. Посвящая ей всё своё свободное время и все свои свободные мысли, которых хватало.
И совсем скоро знал Санёк про войну больше и лучше тех, кто в ней непосредственно, с оружием и без в руках, участвовал. И не как попало знал, а в подробностях. Сколько у кого каких танков было в январе 1942 года, какой в них экипаж сидел, не говоря уже о броне и боекомплекте. Так же и о самолётах, пушках и прочих вооружениях вплоть до винтовки Мосина образца 1897 года модернизированной. И, конечно, знал Санёк все тактические ходы всех боёв и сражений: какая армия или рота какой населённый пункт брала штурмом, кто командовал направлением главного удара, кто заходил с флангов, имея численный перевес в живой силе и технике, кто больше понёс потерь, причём отдельно убитыми, отдельно ранеными и отдельно пропавшими без вести в плену врага.
Часто знакомые россияне у Санька спрашивали:
— Чего это вдруг ты в историю полез, Санёк? С какого такого хрена?
И Санёк знакомым россиянам радостно отвечал:
— Исключительно ради извлечения удовольствия. Приятно же изучать, как мы их, гадов, пиздили. И наше над ними абсолютное превосходство ощущать — приятно до смерти.
Правда, когда Санёк говорил о превосходстве, знакомые россияне — разных, между прочим, национальностей — над ним посмеивались. Незаметно, кривыми улыбками. И Санёк их улыбки прекрасно замечал. Нельзя сказать, что они его очень радовали или мало трогали. Они его скорее ранили и огорчали, и задевали за живое его нежную ахиллесову пяту. Так как все поголовно содержали в себе грубый намёк. На то, что мы их, может, когда-то и того, зато сейчас они нас всех — и тебя, Санёк, в особенности, а также в частности — имеют и в хвост, и в гриву, и в другие части тела. А мы к ним ещё сами изо всех сил и всех бывших республик бывшего СССРа стремимся, как мухи на мёд.
Надо сказать, что несмотря ни на какие улыбки с их пресловутой кривизной, Санёк на каждом углу не уставал во весь голос заявлять, что немцев как класс он всем своим русским духом или — что одно и то же — нутром не любит.
Кое-какие люди из интеллигентов задавали Саньку наводящий вопрос:
— Может, ты не всех их не любишь, а только конкретную Машу? — на что Санёк был упрям в своих пристрастиях. Поэтому отвечал он принципиально:
— Нет, всех, — отвечал. — Именно что всех. А Маша есть незначительный частный случай на общем печальном фоне.
И предъявлял следующее своей нелюбви объяснение — мол, что это за народ такой, у которого «сердце» называется «херц»!
— Да не люблю я их за одно уже только за это! Ну что делать?! Херцу не прикажешь.
Те же самые люди, которые из интеллигентов, интересовались:
— А как насчёт евреев? Евреев ты тоже, конечно, не обожаешь.
— Вы мне евреев не шейте, — давал им Санёк отпор. — Из евреев я одну жену свою бывшую имманентно не воспринимаю — за измену моему полу, — а остальные пускай будут, остальные не виноваты.
Если же к его заявлениям насчёт евреев и немцев кто-нибудь относился недоверчиво, Санёк сразу драться лез в лицо. Потому что для него — русского человека и патриота в диаспоре — немецко-еврейский вопрос был вопросом ума, чести и совести. Эпохальным, другими словами, был для Санька этот вечно щекотливый вопрос. Особенно если Санёк перед ответом на него выпивал шнапсу (дрянь, кстати сказать, редчайшая — всего тридцать два градуса, что для крепкого спиртного напитка — низость).
В общем, изучение истории очень Санька поддерживало на плаву в его нелёгкой иммигрантской судьбе. И отвлекало от насущных проблем личной жизни, канувшей в Лету. При этом обогащая бесполезными, но приятными познаниями. Всё-таки, что бы там ни говорили в кулуарах враги, история у России великая. Настоящее всегда было черт-те какое, будущего — никакого, а история — великая традиционно. Санёк, бывало, изучит, ну, допустим, историю битвы за Днепр или за тот же Берлин — выйдет в центр города, где отрезанная голова Карла Маркса с незапамятных советских времён на постаменте стоит, — и сразу начинает своё величие ощущать, в смысле, человеком себя чувствовать до мозга костей. А это для коренного россиянина чувство немаловажное, тем более для россиянина, проживающего за рубежами своей великой родины в чуждом окружении цивилизации.
Да, кстати. Те же самые так называемые люди из интеллигентов задавали Саньку ещё один вопрос, каверзный до неприличия. Они спрашивали его, с ленинским, как говорится, прищуром:
— Зачем ты, — спрашивали, — на еврейке женился? Женился бы себе на нормальной русской женщине средней полосы, и всё у тебя было бы нормально.
Тут Санёк обычно отвечал не мудрствуя лукаво и вообще никак не мудрствуя:
— В следующий раз именно это я и сделаю, — давал, значит, авансом такое обещание.
И надо сказать, он его, будучи честным более или менее человеком, сдержал. Хотя мог бы и не сдерживать. В конце концов, на ком жениться, а на ком наоборот, — это личное дело каждого россиянина. Но Санёк женился. Причём именно на нормальной русской женщине.
Как она, такая нормальная и такая русская, попала к немцам и почему у них в стране постоянно проживала, об этом история недвусмысленно умалчивает. Может, со времён войны как-нибудь задержалась, может, приехала нелегально на заработки, погнавшись за длинным евро, а может, как тот же самый Санёк, — в качестве беженца от антисемитизма и нацизма. По линии еврейской эмиграции то есть. Да и кому какое собачье дело — как? Важно, что попала и оказалась на жизненном у Санька пути. И он на ней с первого взгляда женился. После чего наконец познал, что такое простое семейное счастье. На собственном, значит, личном опыте и на себе.
Впрочем, это счастье, как и любое другое счастье, оказалось хрупким, а следовательно недолговечным. Потому что и эта жена — даром, что нормальная и русская — от Санька ушла к чёртовой матери. К какому-то бля японцу. И главное так пророчески совпало, что Санёк в это время американскую бомбардировку Хиросимы изучал. А о довоенных битвах Красной армии с самураями — на озере Хасан и на реке Халгин-Гол — он и так всё знал досконально. Давным, можно сказать, давно.
Теперь, время от времени, Санёк сам у себя спрашивает: «К чему бы такое совпадение?» И сам себе время от времени отвечает: «Ни к чему».
Время надежд
В общем, так. И в данном случае чуда не произошло. И Нюша Крым серьёзно забеременела. Да не как все люди беременеют, обыденно, а от лица арабской национальности. Притом, будучи школьницей. Даже не последнего класса школьницей будучи. Ей по-хорошему нужно было ещё учиться, учиться и учиться, — а она, значит это, не удержалась в рамках приличий. И повела себя, как последняя женщина востока.
Мама Крым сделала вид, что ничего особенного не произошло. В смысле, что вообще не произошло ничего — такой вид она сделала. Что ещё она могла сделать, кроме этого вида? Слава Богу, у неё помимо Нюши было ещё в запасе двое детей. И на них можно было возложить свои, попранные Нюшей, надежды. Покуда дети ещё не до конца выросли. Когда ж на них и возлагать, если не в этом их нежном возрасте. На Нюшу в своё время она тоже возлагала надежды. До сей поры и до сего времени. А теперь, конечно, уже не возлагает.
И даже не потому что Нюша отдала юность свою неповторимую арабу преклонных годов и вот-вот сделает её бабушкой какого-нибудь аятоллы или Исмаила. А просто время надежд на Нюшу, видимо, прошло. Время надежд, оно же имеет свойство проходить. А араб Нюшин, если вдуматься в суть инцидента, ничем не отличается от иного не араба. Ну, в конце концов, что тут такого? Ну араб. С кем не бывает. Между прочим, он папу Крыма на хорошую должность устроил, араб этот нежелательный. И папа теперь развозит по городу пиццу на маленькой жёлтой машинке. Плюс к заработку коржи ему перепадают слегка бракованные. Довольно много коржей. Так что хлеб они фактически не покупают. А машинка эта маленькая весь день в его распоряжении находится, и можно на ней заехать куда надо по своим делам. Если они, конечно, есть. Бензину только купить за свои деньги. А то расход его неустанно контролируется хозяевами. Учёт и контроль у них тут превыше всего. Но папа Крым хозяев понимает. Бензин здесь дорогой. Впрочем, по сравнению с Гомелем здесь всё дорогое. И тем не менее.
В Гомеле что за жизнь была? Только и славы, что по итогам переписи — единственный караим в стране, раритет. Папа Крым, в смысле. А так никакой жизни в Гомеле не было. И надежд никаких не было. Ни на детей, ни в целом. Какие надежды, если папа Крым был по образованию педагог, а мама и вовсе без определённого места в жизни. Люша, младшая их дочка, говорила «домохозяка».
Так бы они, не выезжая за границу Беларуси, и прозябали всю жизнь до гроба. Вместе со всем белорусским народом. Если бы не счастливая случайность: папу Крыма назвали на базаре жидовской мордой. Прямо в присутствии мамы. Одна женщина, милая с виду. Подошла сзади и беззлобно так сказала:
— А ты куда, жидовская морда, лезешь?
Сначала мама Крым эту женщину умыла с ног до головы последними словами, а потом приступила к папе Крыму с форменным допросом:
— Ты кто? — сказала мама Крым. — Караим или не караим?
— Я караим, — сказал папа Крым.
— А чего она тебя жидовской мордой обругала?
— Потому что сволочь и антисемитка, — сказал папа Крым.
Тут мама Крым его остановила жестом рук и:
— Ты погоди, — говорит. — Ты мне объясни, какая связь. Между вышеупомянутой мордой и караимской.
И папа Крым был вынужден открыть маме, что караимы — это фактически евреи и есть. Только крымская их разновидность. Отсюда и фамилия его географическая происходит. Конечно, мама Крым пришла в восторг — от того, что папа у них не только педагог, но и караим. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Да-а, если б она знала, что Нюша здесь, в новой Германии, породнится с арабским миром, возможно, она бы папиной экзотической национальностью и не стала пользоваться так целенаправленно, но что об этом теперь говорить. Теперь Нюша отрезанный кусок. В том смысле, что бросила родную семью и живёт со своим арабом обособленно, вне пределов досягаемости. Араб, после того как папу Крыма на работу устроил, сказал ему:
— Я тебе, — сказал, — доброе дело сделал? Сделал. И ты мне сделай.
Папа Крым говорит:
— Конечно, сделаю. А какое?
— Сделай, чтоб я ни тебя, ни жену твою никогда больше не видел. И про Нюшу — забудьте.
К слову, школу Нюша тоже бросила. Это понятно. Не ходить же туда с животом ярко выраженным и очерченным. Школа же — это для детей заведение, а не для мам, пускай ещё только будущих.
С другой стороны, если откровенно вспомнить, Нюша и в Гомеле порывалась спать черт-те с кем. А может, и успешно спала. Да скорее всего спала. Мама Крым давно замечала за ней всякое такое, женское. И училась Нюша всегда так себе, без фанатизма. Хоть тут, хоть там. Так может, всё оно и к лучшему? А если не к лучшему, то и не к худшему. Ведь араб же её, слава Богу, не террорист какой-нибудь, алькаедовец, а беженец от своих же арабов. Причём кулинар — золотые руки. В двух гастрономах работает — в русском и вьетнамском. И в обоих его бесконечно уважают. Нюша тоже поесть любит не на шутку. А готовить не умеет. Потому что где бы она могла кулинарному искусству обучиться? Мама Крым умеет чай кипятить, бутерброды мазать и борщ разогревать, но Нюшу она этому не учила. Она и других своих детей ничему не учила. Ни хорошему, ни плохому. Они откуда-то сами всего набирались.
Мама Крым спрашивала у папы Крыма:
— Ну откуда, скажи, в них это или то? Из окружающей среды, что ли?
А папа Крым ей отвечал:
— Твоё, — отвечал, — пагубное влияние. — И замыкался в себе.
Караимы — они народ замкнутый. А папа Крым, как уже было сказано, караим. Поэтому он и замыкался. Имея на то все видимые основания. Ведь Нюша — это что, это ладно! Нюша — это ещё куда ни шло. А вот Стёпка… Хороший, в сущности, парень. После Нюши папа и мама Крым, естественно, свои надежды на него переложили. Папа Крым сказал:
— Стёпка — это вам не Нюша. Стёпка от пожилого араба не родит.
Но он ошибся. То есть нет, конечно, ни от кого Стёпка не родил. Упаси Бог. Он — хуже, он заболел. Редкой в Германии болезнью клептоманией. Что неизлечимо. Другими словами, стал он велосипеды маниакально воровать и тырить. Все подряд. У него уже этих велосипедов скопилось, как гуталину, девать некуда, а он всё тырил и тырил. Папа Крым его даже побил за это, хотя бить больного ребёнка непедагогично. А Стёпка побои снёс и сказал:
— Да у них тут всего столько, что никто и не заметит.
Однако, собаки, заметили, взяли с поличным и все велосипеды конфисковали в пользу их бывших владельцев. Ну все до единого. И в полицию отвезли на бело-зеленой машине. Дело, само собой, завели личное и ещё в газете написали. Чтоб косвенно опозорить всех так называемых русских иммигрантов. У них же тут скука смертная кругом, в газетах не о чем писать, вот они и написали про Стёпку. И портрет его поместили. Прославили.
Стёпка, надо отдать ему должное, на привод в полицию и потерю всех велосипедов спокойно реагировал, стоически. А на газету нет. Особенно на свой портрет в ней. Очень болезненно он на портрет реагировал.
Короче, от стыда или от позора, ну, в общем, сдуру он взял и сиганул с пятого этажа без парашюта. А квартира у них в старом-старом доме, потолки высокие. И внизу, вокруг дома, асфальт. Это как водится.
Но Стёпка всё равно не умер от удара. И в больнице не умер. Он жив остался. Мама и папа Крым сначала радовались этому чуду, а потом стали иногда думать про себя, что лучше бы он умер. Чем так.
Хорошо, у них трое детей, а не меньше. Есть, на кого надежды возлагать. Младшая Люша — хорошая девочка. В прошлом году в школу пошла. Учится хорошо — на отлично. По-русски совсем уже почти не говорит. А понимать понимает. Правда, всё хуже и хуже.
Подтяжки
Конечно, сначала Аарон Хатаевич радовался новой жизни от души. И отдыхал душой до отвала. Делать-то ему было больше нечего и не нужно целыми днями круглосуточно. Потому что он же не зря в центр Европы по собственному желанию эмигрировал, в настоящий центр, а не географический. И на люфткурорте жил теперь в своё полное и окончательное удовольствие не зря. А чего ему не жить, когда сразу после пересечения границы стал здесь Хатаевич практически никем. Что в его пенсионные годы нормально и только к лучшему. И жил он, как самый настоящий никто, в общежитии для псевдобеженцев и переселенцев из разных стран мира. Но какая разница, где жить? Никакой. Главное, покой, воля, прекрасная криминогенная обстановка, а также социальное обеспечение и отдых. Как душе, так и телу снизу доверху. Дыши себе полной грудью — если, конечно, она у тебя полная — и все заботы. «Люфт» — это же в переводе на человеческий язык означает «воздух». Чем же ещё дышать, как не воздухом, и где, как не здесь? Сюда сама ныне покойная Раиса Максимовна с супругом дышать приезжали, миллионеры деньги за эту счастливую возможность платят бешеные, а тут даром: в магазин идёшь два километра — дышишь, обратно — то же самое. Да круглосуточно можно дышать, поля и горы окружающие взглядом обводя — никто не запрещает. Ещё тебе за это деньги платят — то ли из госбюджета страны, то ли из швейцарских банков.
А раньше, на родине, пропади она трижды пропадом, считался Хатаевич большим человеком. Сначала по партийной линии, невзирая на фамилию недопустимую, потом по правовой и коммерческой. И пускай не самым большим человеком считала родина Хатаевича, но всё же далеко не маленьким. Можно сказать, средней величины большим человеком она его считала, поручая разные ответственные посты вплоть до начальника тюрьмы, крупнейшей, между прочим, в Европе. Люди Хатаевича, можно сказать, любили и уважали, и даже хотели раза четыре убить. Так что груз ответственности в течение ряда лет пришлось ему нести на себе нешуточный. Понятно, что от этого нешуточного груза Хатаевич в конце концов устал. И от каменности века на своей родине тоже устал.
То ли дело здесь, в центре цивилизованной донельзя Европы. Всё упаковано, нарезано, взвешено, всё продаётся и покупается, всё с улыбкой, красиво и по последнему слову передовых технологий.
Хатаевич одному знакомому еврею с родины недавно звонил. Про технологии эти взахлёб рассказывал и между прочим незаметно поинтересовался, мол: «Как там родина в моё отсутствие себя чувствует»? Еврей говорит: «Всё так же, а местами гораздо хуже. Как ещё она может себя чувствовать, родина твоя хуева?» (он употребил, конечно, более резкое слово). Хатаевич услышал это из уст очевидца и опять в очередной раз порадовался. Не за родину, которую любил любовью брата, а за себя. Порадовался и опять отдыхать стал, размеренно дыша экологически чистым курортным воздухом, пригодным даже в пищу.
В общем, поотдыхал он на этом дыхательном люфткурорте, поотдыхал, да и удавился с Божьей помощью. Остроумно применив последнее достижение европейской, правда, не технологии, а моды — в смысле, удавился он при помощи и при поддержке подтяжек от какого-то там кутюр. Приобрёл же эти великолепные многоцелевые подтяжки Хатаевич со скуки и тоски на фломаркте* - так претенциозно и глупо называют в центре Европы барахолку.
А Валя Сатвалдин, учитывая прежнее место жительства, был дитя степей. До такой степени дитя, что за двадцать минут с барана шкуру стаскивал голыми руками. Вот баран стоит, пышет здоровьем, с любопытством на новые допустим ворота глядя, а вот уже шкура с него Валей виртуозно, как всё равно смокинг или бельё, снята. И времени прошло всего двадцать несчастных минут. То есть специалист он в своей отрасли был незаурядный, Валя, и сколько через его голые руки баранов этих прошло, трудно даже примерно подсчитать.
Конечно, когда тут, в центре высокообразованной и глубокоразвитой Европы, у Вали спросили, кем он хочет стать и какие курсы с отличием окончить, чтобы себя в европейское сообщество интегрировать без остатка, он отвечал не задумываясь. Поскольку не слишком был натренирован задумываться. «Хочу быть забойщиком среднего рогатого скота вручную», — вот как отвечал не задумываясь Валя.
Высокоразвитые европейцы очень удивились его искреннему чистосердечному желанию. Потому что у них же всё давно по последнему слову общеевропейских технологий оборудовано. И скотину забивают, конечно, что же с ней ещё делать, но автоматически, без участия ручного человеческого труда и творческой инициативы. Током, газом или другими передовыми техсредствами. В общем, издеваются над бедными животными технически грамотно и экономически выгодно. А Валя заладил своё, как вышеупомянутый баран — хочу быть забойщиком, а больше никем не хочу. Я, мол, дома, в широких степях Казахстана, был не кем иным и тут хочу заново быть тем же самым, прямою дорогой идя по жизни. Ему говорят: «Зачем же вы сюда со своей прямой дороги свернули и приехали, раз никем заново быть не хотите»? А Валя говорит: «По зову крови моей жены свернул. У неё кровь оказалась подходящая».
Видели бы вы, кстати, эту жену!
Короче так. Не позволили Вале быть тем, кем он желал и стремился в мечтах. За неимением у них в объединённой Европе древнейшей профессии забойщика.
Валя, конечно, на Европу сначала обиделся, а потом сгоряча, естественно, удавился. Используя первое, что попалось под руку — в смысле, подтяжки бывшего своего соседа по общежитию Хатаевича. Своих же подтяжек у Вали Сатвалдина не было. Откуда бы у него быть подтяжкам? Тем более от какого-то там кутюр.
Зато полковник Розенберг служил верой и правдой сначала в советской, потом в новой русской армии — в должности военврача-гинеколога. И когда ему присвоили следующее воинское звание «майор» — за пьянку на рабочем месте с использованием своего выгодного служебного положения в личных целях, — он справедливо возмутился такими порядками и демобилизовался, подав командованию матерный рапорт по всей форме. А одновременно — командованию назло — он подал документы на выезд в бывшую вражескую страну. И уехал в неё с супругой, чтобы там проживать. И супруга ему наследника подарила. Практически по приезде. И все его с этим торжественным сюрпризом в личной жизни хором поздравляли — прямо надоели, заразы.
Ну, чей это был наследник, майор, ясное дело, собирался уточнить, сопоставив различные косвенные улики с голыми фактами. Не то чтобы он имел на сей счёт какие-то конкретные подозрения или хотя бы предполагаемого противника. Нет. Проверку он хотел устроить скорее для порядка, профилактически. По старой армейской привычке проверять. Он и себя проверял время от времени неожиданно, не то что супругу.
Но не в этом дело. А в больнице, в её, так сказать, сути. Супруга-то его в больницу рожать ходила, центрально-европейскую, ну, и майор как человек долга ежедневно её с цветами навещал, наблюдая условия содержания простых евророжениц, их режим питания, насыщенный витаминами и килокалориями, а также тому подобное. Всё это по его наблюдениям было настолько высокого качества, что если бы майор Розенберг, допустим, умер ещё до отъезда, на службе родине, и ему с того света показали бы, как именно рожают в центре Европы женщины и как они лежат потом со своими новорождёнными чадами обоих полов, — он умер бы во второй раз не сходя с места показа. От удивления и счастья, что такое на свете не только гипотетически возможно, но и бывает в реальной жизни реальных людей. Понятно же, что майор лишён был возможности представить себе нечто подобное. С одной стороны, его воображение не соответствовало его же воинскому званию — к сожалению, — а с другой, он всю свою сознательную жизнь в армии прослужил, сначала в советской, потом в русской, а там к роженицам, все знают, какой подход. Там они на марше, можно сказать, рожают, в условиях, максимально приближённых к боевым, не выходя из строя.
В общем, навещал майор Розенберг супругу свою родившую, осматривал помещение, беседовал, если так можно выразиться, с персоналом. Он — персонал — только по-своему, по-европейски, умел лопотать, потому понимал майора более чем приблизительно, и последний стремился к взаимопониманию, выражаясь предельно ясно. Он говорил персоналу: «Да бля, — говорил, — ну надо ж!», и: «Вот это, — говорил, — ептыть так ептыть, коллеги!». А персонал майору улыбался культурно и кивал головой, соглашаясь. Так как трудно было персоналу с майором не согласиться, тем более в прошлом своём он был полковником…
Правда, недолго майор Розенберг, в прошлом полковник, имел честь эту больничную феерию лицезреть и ею искренне восхищаться. Всего трое календарных суток. Потому что на четвёртые сутки супруге его по закону полагалась выписка. В центре Европы долго в больницах не разлёживаются, особенно если рожают вместо того, чтоб болеть. Там же всё «евро» стоит, а курс его, как известно, неуклонно растёт.
Ну вот, навестил майор Розенберг супругу с ребёнком их совместным накануне выписки, посидел в узком семейном кругу молча, посмотрел, что супруге на ужин принесли, сказал: «Можно троих солдат внутренних войск накормить», — и ушёл домой с паштетом. Супруга ему из своего ужина паштету выделила. Чтобы он съел его перед сном, намазав на хлеб в общежитии — они временно — как вновь прибывшие к постоянному месту жительства переселенцы — в общежитии жили.
И значит, пришёл майор в общежитие это пешим ходом и открыл дверь большим ключом, и вошёл в видавшую виды комнату. Паштет из кармана достал, выложил его на стол, смотрит, а на столе подтяжки валяются. Что за подтяжки, откуда взялись — один Бог знает.
____________
* Floh Markt — блошиный рынок, если кто не понимает Deutsch.
Сухой фонтан
(литхудпроизведение)
Глава 1
Вечерний борщ
Так ей сегодня было почему-то хорошо! С самого утра и до самого вечера. Ну просто нет слов! Может, воздействовал на неё положительно фактор плохой погоды. То, что она, погода, была на улице, за окном, а Эля — у себя дома. А то и просто сдуру было ей хорошо, ни от чего, без факторов. Она даже веник взяла в руки и квартиру стала подметать по периметру. И делала это без обычного отвращения, а с удовольствием даже каким-то некоторым. Что-то даже напевая себе под нос бравурное из классического репертуара — «Шаланды полные кефали», кажется. И подметала она, и напевала, пока не пришёл отец мужа. В гости он пришёл от нечего делать, со скуки. Что-то ему в голову взбрело — он и пришёл. Почему сегодня, в понедельник, а не в какой-нибудь более удобный день недели?
Но и приход этот, застав врасплох, её против обыкновения не расстроил.
— О, — сказала Эля. — Давно вас не было видно.
— Ты лучше поухаживай за отцом, — сказал муж. — Это всё-таки мой родитель. Какой он ни есть старый мудак, а должна принимать, как родного.
— Как именно?
— Ну, не так, как ты принимаешь.
«А я никак не принимаю, — подумала Эля. И подумала: — Чем бы его накормить домашним? Пожалуй, борщом накормить. Если муж его ещё не съел впопыхах. Пока я подметала полы и радовалась жизни».
Но как только отец вошёл и снял с себя пиджак, муж стал с ним по доброй семейной традиции ругаться не на жизнь. В смысле, на политические темы. Родной отец пришёл в кои-то веки к родному сыну. На какие темы им ещё ругаться? Конечно, на политические, волнующие народ и его отдельных представителей до пены у рта. Тем более традиция у них такая.
«Лучше б вы по традиции в баню ходили, — подумала Эля. — Как люди».
Мишка терпел весь этот крик в доме довольно долго. Не то чтобы слушал или вникал в суть, а — терпел. Потом включил компьютер, надел наушники, запустил стрелялку на полную громкость и стал палить из разных видов автоматического оружия.
— Что ты там делаешь? — спросил вдруг муж из другой комнаты. В процессе воспитания, так сказать.
Мишка не ответил.
— Я тебя спрашиваю, — крикнул муж. — Что ты делаешь?
— Немецкий язык учу, — крикнул в ответ Мишка. Продолжая палить по всему, что на экране двигалось, шевелилось, стояло и лежало мертвым.
Муж начал внушать сыну на расстоянии, через всю квартиру, что надо лучше учить язык, что язык — это главное, что знающим язык принадлежит будущее, а незнающим не принадлежит.
А Эля начала потихоньку сходить с ума. Хорошо ещё, муж быстро вернулся к разговору с отцом. То бишь к ругани с ним на грани политического мордобоя. На неё, слава Богу, никто не обращал внимания. Ни сын, ни муж, ни его отец. На неё у них внимания не хватало. И она позвонила будущему своему мужу, ныне любовнику, и стала всё ему рассказывать в красках и подробностях.
— Так это от них такой шум стоит? — спросил будущий муж, ныне любовник. — Они что там, убивают друг друга?
— Шум от них, а стрельба от Мишки. Он на компьютере стреляет. Всё время был в наушниках, а теперь назло мужу снял и включил колонки. Чтоб шум ругани заглушить. А колонки у нас, сам знаешь — девяносто ватт. Но муж занят руганью всецело и ничего не слышит. Как можно не слышать такой пальбы, я не знаю.
— Ну он же весь в пылу дискуссии. А в пылу дискуссии всё можно. В том числе и не слышать. Лучше скажи, как ты там? Уже получила своё?
— Давно.
— За что на этот раз?
— Да как обычно: не так свистишь, не так летаешь.
— Опять любовнику звонишь? — спросил муж, неожиданно возникнув.
— Опять, — сказала Эля. — Не тебе же мне звонить. — А в трубку сказала: — Всё, пришёл. Обвиняет меня в том, что я тебе звоню.
— Телефон, между прочим, на поминутной оплате, — сказал муж.
А отец его сказал:
— Вот. Ты ни черта не понимаешь в политике, а жена твоя открыто звонит любовнику. Поэтому она, — сказал, — и звонит, что ты не понимаешь. Не уважает и правильно делает.
— Это у тебя называется немецкий язык? — заорал муж на Мишку.
— А какой? — заорал Мишка.
В подтверждение его слов компьютер заорал: «Ханде хох! Юдепартизаненофицирен!», — и в нём дико застрочил автомат.
Эля сказала в трубку «целую», положила её и пошла на кухню. Стала у окна.
Под окном прошёл слепой. За ним ребёнок. За ним ещё слепой. Выбежала из подъезда большая собака и стала играть со старухой. Старуха похохатывала. Собака погавкивала и повизгивала.
В большой комнате что-то произошло. То ли иссякла политическая тема, то ли они от неё утомились. И стали оттуда долетать фразы и диалоги иного, мирного свойства:
— Возьми книг, — сказал отцу муж. — Всё равно их не продать. А ты на старости лет, может, почитаешь. Тебе одному делать нечего целыми днями. Будешь читать.
— А чего, — сказал отец, — давай. У меня, правда, у самого их девать некуда. Мать, если помнишь, этим увлекалась при жизни. Но всё равно давай. Я продам, если что. При необходимости или надобности.
— Ага, — сказал муж. — По пятьдесят копеек за штуку.
На это отец сказал:
— А что, пятьдесят копеек — тебе уже не деньги?
— Мне — не деньги, — сказал муж и сказал: — Посмотри ещё вещи. Может, пригодятся в хозяйстве. На нашу дачу ездить.
— Ты ж дачу на меня переписал.
— Да переписал, переписал.
— Переписал он. А кто её строил своими руками? Ты? А сад-огород? Ты? Ты там только деньги свои зарываешь, от налогов укрытые. Вот найду и отрою.
Сын смотрел на отца, злился и не мог сообразить — откуда он знает про деньги.
«Надо всё-таки его накормить. Чтоб поел раз в сто лет чего-нибудь вкусного», — подумала Эля и полезла в холодильник. Борщ в кастрюле ещё был. Муж не доел, чтобы кастрюлю не мыть. Эля подлила в борщ воды из чайника — гущи там осталось много, — подсолила, восстановив вкусовой баланс, и поставила кастрюлю на газ. Потом добавила в борщ сметаны. Сметана тоже, слава Богу, была.
— Идите поешьте, Иван Григорьевич! — крикнула.
Иван Григорьевич пришёл сразу. Видно, проголодался. За ним пришёл муж. И тоже стал шарить взглядом по кухне. В поисках чего бы пожрать.
— Ты ужинал, — сказала Эля.
— Я знаю, — сказал муж.
— Борщ есть на одного, — сказала Эля.
— Я знаю, — сказал муж.
— Всё он знает, — сказал отец мужа. — Только не летает, прохвост.
Он сел за стол. Эля поставила перед ним тарелку. Отрезала кусок чёрного хлеба. От которого запахло тмином. Отец стал заразительно есть. Черпал борщ ложкой, помешивал, прихлёбывал. Хлеб не откусывал, а отрывал зубами. Муж барражировал у него за спиной.
— Там вам такого хлеба не дадут, — сказал отец себе за спину. — И борща не дадут.
— Борщ мы сами сварим, — сказал из-за отцовской спины муж.
— Ты сваришь! — сказал отец. — Чтобы такой борщ варить, родину любить надо.
Муж вышел из-за спины отца. Вздохнул и сплюнул. Ткнул в Элю пальцем. Сказал:
— Она, значит, любит?
Отец наклонил тарелку к себе и тщательно доел борщ, доел весь до капли.
— Она любит… Им всё равно, родина, смородина. Им — лишь бы кормила. Но ты ж — не они, ты ж в горсовет баллотировался.
— Ложись уже спать, — сказал муж. — Патриот хренов. Книги и вещи она тебе сложит в сумку.
«Как я сразу не догадалась, зачем он пришёл?» — подумала Эля.
Она постелила отцу мужа в большой комнате. Он разделся и лёг. Муж остался на кухне. В поисках съестного. Наконец, поел луку — в рамках борьбы с авитаминозом — и пошёл спать.
А у него к утру всё нёбо волдырями покрылось. А за окном поднялся ветер, ещё сильнее вчерашнего.
Глава 2
Утро, переходящее в день
Утро получилось тяжёлым. Пекло, а не утро. И пекло в этом утре, как в пекле. Несмотря на ветер. Который дул, чуть ли не обжигая.
Из дому Эля вышла рано. Так рано, что раньше уже и невозможно. Все ещё спали, когда она вышла. Думала, утром будет не так жарко. Но всё без толку. В маршрутке стояла духота. И запахи. Сарафан промок сначала на спине, потом на груди. Промок и прилип.
— Вот гадость, — подумала Эля и остановила маршрутку. И вышла из неё на улицу. Где было менее душно, но не менее жарко. — Мне только такой жары не хватает. В моём положении и с моими сто на шестьдесят.
Вспомнив о своём положении и своём давлении, Эля сразу почувствовала себя хуже. То есть лучше. Потому что голова у неё плавно пошла кругом, создавая эффект лёгкого опьянения.
— Надо было хоть чаю выпить, — подумала Эля. — Или кофе. Хотя, кофе мне, наверное, вреден.
Будущий муж, ныне любовник, увидел Элю из окна и отпер дверь. Она поднялась по лестнице, поднесла руку к звонку, а дверь перед ней сама и отворилась. Потому что будущий муж стоял в ожидании за дверью и смотрел в глазок. И видел всё — лестницу, Элю, стены и двери — в искажённом виде.
— Привет, — сказала Эля.
— Привет, — сказал будущий муж, ныне любовник. — Я готов.
— Мы что, даже чаю не попьём? — сказала Эля.
— Там попьём, — сказал любовник. И сказал: — Ты же хочешь попрощаться с Колючим?
— Хочу.
— Тогда пошли. А то ищи его потом.
— По-моему, ты меня не любишь, — сказала Эля.
— Как же я тебя не люблю, если я твой любовник? — сказал любовник. — А также и будущий муж.
Хатка Колючего (Колючий — это фамилия, честное слово, фамилия) была заперта. Конечно, дверь можно было хорошо пнуть и, куда бы она делась. Но зачем? Раз заперто, Колючего нет. Тем более в двери торчит записка. План. Подняться по Артема десять метров, свернуть в арку, там через двор наискосок, к жирному крестику.
Мы пошли по плану. Вошли в арку. Прошли в глубину замусоренного двора и взяли курс на жирный крестик. Крестиком оказался сам Колючий. Он стоял за гаражом и писал весёлый пейзаж.
— Ловлю весну в начале мая, — сказал он. — А то у нас же её практически не бывает. У нас же два времени года — зима и лето. А осень и весна — так, для блезиру.
— Мы тебе мороженого принесли, — сказал я. — По пути купили. И тоник.
— У меня руки в краске, — сказал Колючий. — По уши.
Пришлось срочно есть мороженое самим. Оно уже давно начало таять и течь. Пить тоник Колючий тоже отказался. Он, кроме чая и минералки, вообще ничего не пил. Если не считать тяжёлых спиртных напитков в разумных пределах.
— Подождите десять минут, — сказал Колючий, — я сейчас. Только над душой не стойте.
Мы отошли в тень. Её отбрасывала лестница, ведущая на второй этаж старого дома. Прямо по воздуху. Когда нога человека ступала на лестницу, лестница пошатывалась и металлически ныла.
Тоник пили прямо из пластикового горлышка. Сначала Эля, потом я. По очереди. Наконец, дождались Колючего с мольбертом. Зашли к нему в хатку. Всё ещё хранившую внутри собачий холод и зимнюю сырость. Стены толстые, глиняные, прогреваются медленно. Тем более это полуподвал.
Посмотрели весну, развешанную на холодных стенах.
— Ну как?
— Хорошо.
— Давай зайдем к Вове в мастерскую, — сказал Колючий, — у него тепло и есть чай. Еда тоже вполне возможна. Потому что он в мастерской живёт и любит готовить деликатесы.
Из полуподвала поднялись к Вове. На полувторой этаж. Постучали. Вова вышел обескураженный. Весь пунцовый, весь взъерошенный и радостный, в запотевших очках.
— Рад вас видеть, — сказал Вова. — Но почему без звонка? Я же не один, а с женщиной.
— И мы не одни, а с женщиной, — сказал Колючий. И сказал: — Ладно, в другой раз.
— С первой попытки чаю выпить не удалось, — сказал я Эле. — Так что пей тоник.
— Много тоника я не могу, — сказала Эля. — От тоника меня пучит.
Мы вышли на Артёма.
— Пойдем к Валюне. У него вчера был день рождения.
— Я не хочу к Валюне. Он водки нальёт, а мне жарко. Я не могу пить водку в такую жару. Я эстет.
— Не будем пить водку, — сказал Колючий. — Только чай.
Пошли по Артёма вниз, свернули на Шевченко.
Валюня пребывал в соответствующем состоянии, в состоянии после дня рождения. Пил пиво. И настойку шиповника на спирту. Её он купил в аптеке, чтоб голова не болела. Антонины не было. Антонина работала в Иерусалиме. Зарабатывала шекели, нянча иерусалимских детей. Она уехала туда полулегально, по церковным каналам. Священники ей помогли, потому что она пела в церковном хоре сопрано и выполняла в церкви разные побочные функции. А уехала так, чтобы Валюня не знал, инкогнито. Иначе он бы её не отпустил. Сказала, что едет на Рождество в Сергиев Посад, помолиться. А потом письмо написала, когда добралась до места. Мол, стою, Валя, непосредственно у гроба Господня. Валюня получил это письмо, прочёл и говорит сам себе: «Вот тебе, Валя, и Рождество».
Конечно, он расстроился.
— Ходил только что на главпочтамт, — сказал, — звонил Антонине. Телефон не отвечает.
— На работе она, — сказал Колючий.
— У неё мобильный телефон, — сказал Валюня и показал мятую бумажку с длинным номером.
— Ух ты! — сказал я. А Валюня, глядя на Колючего, сказал:
— Ты, конечно, голодный.
— Кто сказал, что художник должен быть голодным? — сказал Колючий.
— Художник должен быть Колючим, — скал я. И объяснил: — Каламбур.
Колючему каламбур понравился. И он согласился выпить чаю.
Валюня поставил чайник на плиту.
— Я ж тебе говорил, — сказал я Эле, — что чай будет. Рано или поздно.
Мы выпили чаю. Потом ещё выпили. А Валюня выпил к тому же весь тоник из нашей бутылки.
— Красота! — сказал он и выпустил из носа газ. — Вчера одних салатов штук десять нарезал. А Лида подарила мне пишущую машинку.
Он посопел, почесался и сказал:
— На хуя мне пишущая машинка? Это вопрос не на жизнь, а на смерть.
Беседа как-то не ладилась. Валюня страдал. Он вчера спьяну купил себе повременно женщину. Поскольку за пять месяцев без Антонины просто извёлся. Взял у матери десять евро — ей немцы заплатили за то, что угоняли к себе в Германию и там эксплуатировали — и купил. Самую простую, уличную. Конечно, он теперь страдал. Жара, перепой, растрата десяти евро, угрызения совести и торжество плоти. Кто это всё может перенести без страданий?
— Завтра мебельный салон «Румыния» открывает картинную галерею, — сказал Колючий. — Будет торговать финской мебелью и нашими работами.
— А вчера Султан Рахманов умер, — сказал Валюня. — Тут рядом его офис. — И без всякой связи: — Надо ещё раз пойти. Позвонить Антонине.
— И мы тоже пойдём, — сказала Эля. — Нам уже пора.
То есть все мы хотели идти. Каждый по своим делам. Только Колючий не хотел. Он хотел продолжать пить чай и о чём-нибудь умно беседовать. Но чай неожиданно кончился. А беседа так и не началась. Колючий быстро, мягким карандашом, нарисовал портрет Эли в профиль и подарил ей. Валюня сделал то же самое, но анфас. И нам ничего не осталось, как встать и пойти. Мы встали и пошли. По теневой стороне проспекта. Валюня — опять звонить. Колючий — с нами за компанию. А мы — в сторону вокзала. Всем нам было по пути. До почтамта, как минимум. У памятника вождю нас догнал толстый Степанов. С супругой.
— Ты с каждым разом всё больше, — сказал я.
— Неправда, — сказала супруга.
— Правда, — сказал я.
— Ты, как всегда, с комплиментами, — сказал Степанов.
— Я как всегда, — сказал я. — Вы куда?
— Так, гуляем. В книжный магазин на экскурсию.
У нас теперь есть точно такой книжный, как в уважающих себя столицах, потому что есть точно (ну, или примерно) такая, как везде, «Плаза». Называется она «Плаза Украины», всё в ней на американский манер, и все ходят в неё и в её шикарные магазины на экскурсию. Чтобы в Нью-Йорк или ещё куда не ездить.
— Мне в книжный нельзя, — сказал я. — Мне там слишком многое хочется купить. А куда потом всё это девать? Да и денег сейчас нет на книги.
— А у меня есть деньги, — сказал Степанов. — Такие дела.
Они свернули в книжный не прощаясь, а мы пошли прямо не задерживаясь. Но задержались. Эля решила, что ей нужно в «Рыбу». Купить сырой сёмги. По двадцать гривен за килограмм. Чтобы дома её посолить кустарным способом и наделать много-много бутербродов. К прощальному вечеру на работе. Но сёмги в «Рыбе» не оказалось. То есть сёмги было завались, но солёной и от этого безумно дорогой.
— Придётся обойтись без сёмги, — сказала Эля. — А жаль. Ею закусывать — интеллигентно. Да и вкусно.
У почтамта Валюня сказал:
— Ну пока, — и вошёл в помещение переговорного пункта.
— Пока, — сказали мы ему в спину.
— А я пройдусь с вами, — сказал Колючий. — Вы прямо?
— Прямо.
— Лида говорит, что профессор Бойко — голубой педофил, — сказал на ходу Колючий. — Она уже и в университет сообщила, и в союз художников. Я ей говорю: «Разве так можно? Вы с ним тридцать лет знакомы». А она говорит: «Он на Пасху к моему сыну грязно приставал».
Я разговора на тему Лиды не поддержал. Не любил я тему Лиды. И её заведомо ложных измышлений не любил.
На углу Садовой и проспекта остановились.
— Ну, всё. Мне налево.
— А нам опять прямо.
— До вокзала?
— Да. Прощайтесь.
Колючий похлопал Элю по плечу, приобнял. Эля улыбнулась.
— Хорошо прощайтесь, — сказал я.
Колючий удивился и Элю поцеловал. Эля тоже его поцеловала.
— Надо ехать на Орель, — сказал Колючий. — Сливаться с природой. А то что мы тут сидим и сидим?
— Да, — сказал я. — Непонятно.
— Почему ты ему ничего не сказал? — спросила Эля, когда он ушёл.
— Зачем? — сказал я. — Зачем портить день?
— Но он же не понял, что попрощался со мной по-настоящему. Может быть, навсегда.
— Почему это навсегда? — сказал я. — Навсегда я не согласен.
Глава 3
Это было летом-2
Да, летом 2002-го года. Ровно через четыре месяца после смерти мамы. День в день. Именно тогда Эля меня наконец уговорила. И припёрла к стенке, сказав, что даже съездит со мной в Киев. Придумала себе командировку, хотя мужу всё было про нас известно, — и мы поехали.
Взяли билеты в одно купе, только она подсела в своём Верхнедзержинске. Её, как и предполагалось, никто не провожал. Но перед станцией я всё равно вышел из купе и постоял не спеша в тамбуре. А когда вернулся, она уже сидела на нижней полке, и поезд уже трогался.
— Привет! — сказала Эля.
— Привет! — сказал я.
— Курил? — сказала Эля.
— Курил, — сказал я. — На случай, если бы тебя вдруг провожали.
— Кто меня может провожать! — сказала Эля.
— Ну, я не знаю, кто.
— И я не знаю.
Поезд пришёл на удивление точно. Без двух минут шесть. То есть времени у нас было много. А куда его девать, мы не знали. Поэтому просто бродили по Киеву. Бесцельно. На ходу что-то такое съели — в катакомбах всё того же американского типа под Майданом Нэзалэжности. Кафешка называлась практически по-французски — «Швыдко», и ели мы нечто быстрого, швыдкого то бишь, приготовления. Вкус еда имела смутный. Поев, заглянули сквозь стекло в закрытый ещё книжный магазин. Такой же, как у нас, в нашей доморощенной «Плазе». Отсюда, снаружи, он выглядел роскошно. Правда, я знаю, что все закрытые магазины, а книжные особенно, выглядят гораздо роскошнее, чем открытые.
Больше внизу делать было нечего. Мы выбрались наверх. Постояли на Крещатике. Осмотрели со спины бетонную тетку в золоте. Она торчала над городом и что-то символизировала в лучах восходящего солнца.
До немецкого посольства прошли пешком. Пристроились к какой-то сильно советской очереди. Обнаружили, что очередь не та. Выяснили, что та будет в два часа дня, и занять её заранее или там предварительно в неё записаться — нельзя ни за какие деньги. Не предусмотрено порядком. Можно, конечно, сидеть тут, во дворике, не отходя, и быть первым. Но это глупость. Потому что посольские служащие принять успевают обычно всех.
И мы ушли. Эля сказала:
— А не съездить ли нам к дяде Йосифу. Восемьдесят лет человеку, надо его навестить.
— Он что, болен? — спросил я.
— Почему болен? — сказала Эля. — Он ещё огого.
Она поехала к дяде. А я не поехал. Что я, восьмидесятилетнего дядю не видел? Я решил, раз уж всё так удачно сложилось, найти две редакции, где мне были должны. Не очень много — много наши органы массовой информации не платят, — но какая разница сколько, главное не количество, главное — что не ты должен, а тебе. Это уже само по себе радует и веселит.
Не знаю, как съездила Эля, а я — так очень удачно съездил. В обеих редакциях мне отдали деньги. На Украине это такая редкость — чтобы те, кто тебе должен, добровольно отдавали деньги. Да ещё по-белому, по первому требованию и не по знакомству. Загадочная всё-таки страна Украина.
Встретиться с Элей мы договорились в 13−00. Встретились. Съели по мороженому и пошли к посольству.
Вдруг увидели неоновую вывеску «Едем». Переглянулись. Мистика какая-то. Я подумал: «Наверно, Эля права, надо ехать». И тут же догадался, что это всего лишь название ресторана, написанное по-украински, и означает оно не «едем», а «Эдем». Но ощущение, что это знак, осталось. А может быть, я нуждался в знаке, и готов был принять за него что угодно.
На этот раз очередь во дворе имела место быть. И как раз та, что нужно, только гораздо длиннее. Двигалась очередь быстро. Вдоль неё ходил какой-то полуофициальный дядька, смотрел документы, отвечал на вопросы, давал советы (как потом выяснится, вполне дурацкие. Но это выяснится потом). Дядька посмотрел моё свидетельство о рождении. Перечитал национальность мамы и национальность папы.
— Молодой человек, — сказал он. — Что вы здесь до сих пор делаете?
— Живу, — сказал я и отнял у него документ.
Дядька удивился:
— Зачем?
А я стал злиться и психовать. Какое ему дело, что я здесь делаю и зачем живу? Нет, ну какое?
Часа через полтора я держал в руках анкеты и памятки, с подробными рекомендациями — как поступать дальше, если я хочу получить полное право жить — нет, проживать! — в благословенной стране Германии, считаясь беженцем. Что не только почётно, но и прибыльно.
Я сунул бумажки в сумку.
— Всё, звоним Куркову.
Курков взял трубку после первого же гудка.
— Привет, это я, — сказал я. — Мы приехали.
— Ну так приходите, — сказал он. — Ты же знаешь адрес?
Адрес я знал. Но шли мы долго. Потому что петляли.
Я подходил к прохожим аборигенам и спрашивал:
— Не скажете, где находится американское посольство? — что делать, сегодня был день посещения посольств и их поисков.
Прохожие аборигены или шарахались от меня, или посылали в самые разные стороны и места. Почему-то никто из них точно не знал, где находится американское посольство. Где американские химчистки, знали многие, а где посольство — нет. Но Курков жил именно поблизости посольства, а не поблизости химчистки.
Эля сказала:
— Я знаю, почему они шарахаются. Они думают, что мы хотим американское посольство взорвать.
— Взорвать?!
— Посмотри на свою черную сумку.
Я посмотрел.
— Теперь прислушайся.
Я прислушался.
В сумке громко тикал мой будильник угличского часового завода. Я всегда беру этот безотказный будильник с собой в дорогу. Мало ли что.
— Про твою чёрную рожу я не говорю. Типичный террорист.
— Сумка да, сумка тикает, как сумасшедшая, — сказал я. — А рожа — вопрос спорный. У меня уже вся голова седая.
— А что, седых террористов со спорными рожами не бывает? — сказала Эля и сказала: — Пошли.
— Куда?
— Какая разница? В любом случае мы на правильном пути.
Эля, как обычно, угадала. Мы нашли посольство. Поскольку давно ходили вокруг да около. Наткнулись на вывеску «ул. Некрасовская», дальше всё уже было просто.
— Смотри, — сказал я, когда подошли к дому Куркова. — Он же чуть ли не во дворе у американцев живёт. Наверно, в гости к ним ходит, на файф-о-клок, бля, на ланч. Ловко устроился.
Кстати, жена у Куркова англичанка. Настоящая англичанка. Из Англии. И дети говорят по-русски, по-английски, а при надобности и по-украински. Они всё время перетекают из языка в язык, легко и свободно. За ними не уследишь.
Интересно, зачем люди женятся на англичанках? Может, с тоски? Или, наоборот, от любви и от чувств вселенского масштаба, которые не имеют границ? Судя по всему, от любви. Во всяком случае, Лиза отказывала Куркову несколько раз, но он её добивался, пока не добился, чтобы она стала Курковой. И она стала. И сейчас была заметно беременна третьим ребёнком. А двое предыдущих детей жили здесь, в квартире вокруг нас, какой-то собственной детской жизнью.
Старшая Габи приходила из своей комнаты есть с тарелки Куркова бутерброды. А мы, между прочим, их не ели, мы ими закусывали. Это разные вещи. Младший Тэо приходил тоже. Но он стоял и молча наблюдал за процессом. Он вообще был молчалив, этот Тэо Курков.
— Ты съешь мои бутерброды, и я умру с голоду, — говорил Курков Габи. — Вас некому станет кормить и вы тоже умрёте.
— Шутит, — объясняла нам Габи и продолжала есть бутерброды.
Курков, поняв, что её не остановить, сходил на кухню и принёс большую сковороду.
— Это кус-кус с котлетами, — сказал он. — Гвоздь программы.
— Объясни, что такое кус-кус, — сказал я. — Что такое котлеты, я знаю.
Курков показал пальцем на россыпи кругленькой крупы в сковороде и повторил:
— Это — кус-кус. Мы с Лизой это любим.
И мы стали закусывать кус-кусом. И котлетами, конечно, тоже стали закусывать.
И вечер получился хороший. Не от выпитого и усталости, а от тепла. Особого домашнего тепла, которое чувствовалось в этом доме везде.
Несмотря на всеобщую августовскую жару.
Утром я проснулся от того, что надо мной стояли Габи и Тэо. Они стояли и смотрели.
— Ты ему кто? — спросила Габи у Эли. — Жена?
— Нет, — сказала Эля. — Не жена.
— А почему ты с ним спишь?
Эля задумалась. Габи ждала ответа. Тэо тоже чего-то ждал.
— А у вас же нет для меня отдельной кровати, — сказала Эля.
Теперь задумалась Габи. И Тэо задумался вместе с ней.
— Действительно нет.
Габи вышла из комнаты и сказала Лизе:
— Нужно купить ещё одну кровать.
— Хорошо, — сказала Лиза. — Купим. И сказала: — Габи, говори со мной по-английски.
— Ты что, по-русски не понимаешь? — сказала Габи, но на английский всё-таки перешла.
После завтрака съездили на рынок. Цены нам показались умопомрачительными. А Куркову ничего, доступными.
— У меня же в прошлом году двадцать книжек вышло на разных языках. Так что для меня нормальные цены, — сказал Курков.
Мы купили всякой съестной всячины, погрузили в «форд» и поехали домой.
Лиза и дети были уже готовы.
Мы вошли и взяли сумки. Габи смерила меня взглядом. Сравнила с Элей, с отцом, с Лизой. Наконец, сравнила с собой. И сделала вывод:
— Ты очень маленький мужчина, — сказала она.
— Маленький, зато настоящий, — сказал я.
Она ещё раз на меня посмотрела:
— Нет, ну всё-таки очень маленький.
В Лазоревку ехали совсем не долго. Часа, что ли, полтора. Лиза с лёгким акцентом рассказывала о лазоревском соседе, который как-то подвозил её на «москвиче» в Киев.
— Сели, — говорит, — в машину, он у детей своих спрашивает: «Что нужно сделать перед дорогой?». «Помолиться, — отвечают дети, — сказать «спаси Бог». — А я думаю — почему бы не пристегнуться? И не зря думаю. Потому что до самого Киева все ехали не пристёгнутыми. Кроме меня, конечно.
Параллельно Габи дёргала Элю — интересовалась, есть у неё дети или их у неё нет. Узнав, что есть сын, стала выяснять, приедет ли он к ним в гости.
— Приедет, — сказала Эля. — Он девочек любит.
— А мальчиков? — спросил Тэо и уснул.
— Да, — сказала Габи и тоже уснула.
— Зачем ей утром понадобилась ещё одна кровать? — сказала Лиза. — Не знаешь?
Эля объяснила.
— Нет, всё-таки я правильно их воспитываю, — сказала Лиза. — Всё-таки правильно.
А потом были два дня в деревне. Где Курков купил себе по случаю дом.
— Эх, хорошо в деревне летом, — говорил Курков, когда мы пили водку и ели мясо на вертеле, и угощали им чужого кота. Кот ходил по двору и прикидывался своим. Ходил почти до утра, пока мясо не закончилось, и запах его не растворился в ночи без остатка.
— Тиха украинская ночь, — говорил Курков.
А я говорил:
— Сам написал?
— Не льсти мне, — говорил Курков и гладил кота. Кот в надежде на продолжение банкета гладить себя позволял.
— А я из союза писателей вышел, — говорил я.
— А я стал в нём секретарём, — говорил Курков. — Представляешь?
— Туда нам и дорога, — говорил я.
А Курков говорил:
— Надо за это выпить. Или не надо?
Мы выпивали, борясь между тостами с комарами. Женщины и дети давно ушли спать. Я говорил:
— Покойный Даур Зантария — между прочим, мой ровесник — как-то сказал: «Волнует меня только то, что может быть зафиксировано в истории». А меня волнует только то, что не может быть зафиксировано в истории. — Я всё время норовил серьёзно поговорить с Курковым о литературе и прочей чепухе. Курков меня стыдил:
— Да ну её, эту литературу, в задницу. Ты ещё про дискурс со мной поговори. Или про парадигму.
— Нет, до дискурса я никогда не опускался, — говорил я, и мы выпивали. За Лизу, за Элю, за Тэо и Габи. За нас мы тоже выпивали и чувствовали, что за всё это выпивать приятно.
Весь следующий день мы купались в пруду. Вечером ходили за целебной родниковой водой в лес, к капличке. Перед сном я читал Габи и Тэо сказки. И они их слушали. Когда привезённые из города русские книжки кончились, Габи принесла английскую.
— Я не умею читать по-английски, — сказал я.
— Да ты хоть попробуй, — сказала Габи.
Давно мне не было так легко и спокойно, так по-настоящему легко и по-настоящему спокойно. И я напрочь забыл, что в сумке у меня лежат анкеты, и что у Эли уже есть вызов, и что она меньше чем через год уедет. Я не вспомнил обо всём этом ни разу.
И когда Курков, оставив Лизу и детей в Лазоревке, привёз нас в Киев, чтобы проводить, тоже не вспомнил. Но это как раз не мудрено — в таком всё происходило темпоритме. До поезда мы успели: бегом погулять по Андреевскому спуску. Зайти в Дом Булгакова. В две галереи. В китайский ресторанчик. В голландскую пивную. В гости. И закончить гонку у Куркова дома, где выпили красного вина, и где Курков играл на рояле и пел комсомольские песни из песенника. Сначала сам, потом в четыре руки и в два голоса с Элей, маршируя. Думаю, в этот вечер служащие американского посольства были в недоумении.
На коду Курков взял охотничий рожок, проникновенно сыграл «Шаланды полные кефали» и проводил нас на вокзал.
В поезд мы прыгнули за минуту до его отправления.
И тут я вспомнил, зачем ездил в Киев.
Глава 4
Это было летом-1
А тридцатого августа годом раньше «Укрлитгазета» огласила на всю страну имена литературных счастливцев и баловней литературной судьбы. Тех, кому были присуждены литературные премии за прошлый год. Короленковскую премию выдали мне.
Сам я, правда, газету не читал. Мама тогда уже болела, лежала в девятке, и у меня не было ни времени, ни сил искать газету, которую не читает ни один нормальный человек и не продаёт ни один нормальный торговец. Думаю, тираж у этой газеты раз в пять меньше, чем число членов союза писателей. По одному экземпляру на пятерых членов, значит. И они передают её из рук в руки, как переходящее красное знамя времён социализма — за особые заслуги перед родиной и её литературой.
Так что счастливую новость принесла мне на хвосте знакомая поэтка Люся Ярославка. Она позвонила — собственно, из местных она только и позвонила — и сказала в своём поздравлении, что жизнь я прожил не зря.
Ну ясно, не зря — раз в ней имело место такое знаменательное событие. Настолько знаменательное, что вся областная спилка, все пятьдесят девять классиков областного масштаба, ломали себе головы — кто у меня в Киеве дядька и кому я заплатил. А главный областной пысьмэннык, тот вообще негодовал, призывая в свидетели всех святых и всё областное управление культуры поголовно.
— Пысьмэнство области, — негодовал он, — его на соискание премии не выдвигало. У нас есть семнадцать достойнейших кандидатур, в том числе членов президиума.
— О чём это говорит? — спрашивало управление культуры.
— А говорит это о том, — объяснял управлению главный пысьмэннык, — что дело тут нечисто. Сначала он все московские журналы скупил на корню, и они десять лет подряд печатают всё, что бы он ни накатал, а теперь и до Киева дотянулся своими лапами. Откуда у провинциального журналиста столько денег? Надо сигнализировать финансовым органам правопорядка, чтобы разобрались.
— У творческого представителя украинской интеллигенции никак не может быть столько денег — чтобы купить всех, — говорил заместитель главного областного пысьмэнныка и его личный секретарь. — Поверьте моему опыту.
А главный областной пысьмэннык говорил:
— Так какой же он представитель? Таких, как он, представителей Богдан Хмельницкий в своё время… Да… славное было времечко. Я ещё о нём напишу.
Все эти страсти передавали мне через третьи руки сами же пысьмэнныки города и области, но я с удовольствием не обращал на них внимания. Только вздыхал — мол, ох уж эта мне творческая интеллигенция, склонная к погромам.
А когда, месяца три спустя, в отчётном докладе пысьменныцького съезда та же газета посвятила моей персоне сколько-то строк, то есть больше, чем всем областным членам вместе взятым, главный пысьмэннык области пришёл к выводу, что у меня рука в администрации президента или, на самый худой конец, в кабмине. Пришёл и как-то скис, спал с лица, и на носу у него вскочил волдырь.
Что до самой «Укрлитгазеты», то странная она. Сначала ругалась по моему адресу, как крановщица, потом меня же хвалила на чём свет стоит.
Несколько лет назад ей не понравилось то, что я написал в «Московских новостях» и наговорил русской службе радио «Свобода». Я не помню, что я написал и что наговорил, но думаю, это и неважно — не понравился сам факт публикации в москальских и иже с ними СМИ. За что «Укрлитгазета» поставила меня на место. Не пожалев для этой благородной цели одной своей полосы. Автор статьи — потомственный украинец из Кривого Рога, лет тридцать уже мучающийся в проклятой Москве (естественно, все эти годы в самых светлых своих мечтах он чаял вернуться на милую криворожскую Родину, чтобы к ней припасть или в крайнем случае прильнуть), рассказывал украинству о том, какая я есть москальско-масонская сволочь, и заканчивал рассказ добрым мне советом, а также и пожеланием — убираться в свой Израиль, раз горячо любимая им из Москвы Украина меня чем-то не устраивает.
Что интересно, той газеты я не читал тоже. Её читал мне по телефону вслух один национально озабоченный пысьмэннык-гуморыст. Читал взахлёб, в нужных местах наслаждаясь. Он вроде неплохо ко мне относился и был нормальным парнем, этот гуморыст — только без чувства юмора. Но национализм и чувство юмора — две вещи несовместные, — поэтому я на него не обиделся. И не только на него. Я ни на кого не обижаюсь. В самом худшем случае посылаю на хуй и забываю о существовании посланного мною лица или коллектива.
Так вот о премии более, так сказать, детально. Премию я в конце концов не получил. Я имею в виду деньги. Диплом мне привёз какой-то неизвестный мужик, по-видимому, тоже пысьмэннык. В ноябре он был в столице, и ему с оказией передали красные корочки. На которых только Ленина тиснённого не хватает. По возвращении мужик позвонил, я зашёл к нему на работу, и он отдал мне эти корочки.
— А деньги? — спросил я.
— Какие деньги? — спросил мужик.
Я говорю:
— Премиальные деньги.
А он:
— Разве я вам булгахтерия?
Это была мысль.
Позвонить в бухгалтерию национальной спилки пысьмэнныкив особого труда не составляло и стоило не слишком дорого.
Бухгалтерия долго не могла сообразить, кто я, блин, такой и чего, блин, от неё хочу. Я раза три ей это объяснял. Она раза четыре переспрашивала, как моя настоящая фамилия и чью фамилию носит моя премия. Я уже думал, что погибну под её расспросами. Но бухгалтерию вдруг осенило, и она сказала:
— Ага, ясно. Мы вам премию вышлем переводом. Сто шестьдесят гривен. Перевод за ваш счёт. Ждите.
Сто шестьдесят гривен — это около тридцати трёх долларов. В своей жизни я получал несколько премий. И все они были не слишком большими. Но такой небольшой получать мне всё-таки не приходилось. Разве что в бытность свою инженером — за квартал и за внедрение новой техники. Думаю, самого Владимира Галактионовича — уж на что был бессребреник — размер премии его имени сильно обескуражил бы. Чего же требовать от меня?
— У вас есть мой адрес? — спросил я.
— Нету.
— Как же вы собираетесь посылать деньги?
Бухгалтерия думала дольше, чем принято думать в междугородный телефон.
— А вы мне его продиктуйте, — наконец придумала она.
Я продиктовал.
И забыл о премии, о бухгалтерии и обо всех пысьмэнныках всего мира. Мне было сильно не до воспоминаний о них, совсем не до воспоминаний. И в следующий раз я вспомнил о причитающихся мне бешеных деньгах только перед Новым годом. Получил от генерального пысьмэнныка всея Украины поздравительную открытку с наступающим Рождеством — и вспомнил. Открытка начиналась словами: «Любый побратымэ!» (говорили, что на открытках женщинам стояло «люба посэстрэ!»).
Бухгалтерия опять не могла врубиться, кто я и чего мне от неё в канун праздника нужно. А врубившись, сказала:
— Вы уже столько ждали, так подождите ещё. Третьего января мы вам отправим деньги переводом.
Что случилось третьего января, я расскажу. Что было потом — тоже. Но уже сейчас могу сказать твёрдо: «Чего в этом „потом“ не было — так это денег переводом».
И последний раз мне вспомнились премиальные деньги в самом конце зимы, когда я уговорил врача провести маме курс химии на дому, и нужно было купить препараты. Всё-таки сто шестьдесят гривен — это была почти треть их стоимости.
Разговор с бухгалтерией выглядел примерно так:
— Когда я получу свои деньги? — сказал я.
— Сейчас, — сказала бухгалтерия, — на счету у национальной спилки пысьмэнныкив нет такой крупной суммы…
Я сказал:
— Сочувствую спилке от всей души. Но меня интересует, когда я получу деньги. Вы можете назвать дату?
Такой наглости бухгалтерия от меня не ожидала.
— Если будете требовать, — сказала она, — вообще ничего не получите.
Я от неё такой наглости тоже не ожидал. Поэтому отвечал несколько сумбурно и чуть грубее, чем следовало:
— В таком случае, — отвечал я, — возьмите мою премию — я вам её дарю, — сверните в трубочку и засуньте в жопу моему лЮбому побратиму.
Назавтра после этого разговора я отвёз областному пысьмэнныку заявление в форме извещения: «Ставлю вас в известность о своём выходе из союза писателей». Дата и подпись.
Главный пысьмэннык области страшно моему заявлению обрадовался. Он даже потянулся меня обнять, а там, чем чёрт не шутит, и поцеловать в щёчку. Мне тоже было приятно порадовать человека. Тем более сейчас. Когда все — в глаза и за глаза — над ним посмеивались. Так как на днях развёрнутая дискуссия о судьбах мировой культуры закончилась плачевно для его официального лица. Свободный художник Колючий при огромном скоплении культурной элиты города, а также и журналистов дал главному пысьмэнныку по морде. Выразив тем самым общее мнение большинства культурных слоёв областного центра.
Конечно, это нужно было сделать давно. В смысле, не по морде дать пысьмэнныку (что тоже, впрочем, не помешало бы), а из его союза выйти. Хотя бы потому выйти, что я никогда в этот союз не входил. Меня приняли туда после путча, в Москве, в числе сотни других, так сказать, достойных и дозревших. И поскольку сломанная общесоюзная машина продолжала по инерции проворачиваться, бумага о моём приёме в писатели пришла из Москвы в Киев, а из Киева в область. Причём бумага была категорического содержания: «Поставить на учёт нового члена», — и баста. Вот его, в смысле, меня и поставили. Если б не эта бумага, областные пысьмэнныки меня к своей спилке на пушечный выстрел не подпустили бы. Да я бы туда и сам не сунулся.
Ну просто в голову бы мне не пришло туда соваться.
Глава 5
Двадцатое апреля. Сразу после шестнадцатого
Смерть наступила двадцатого апреля. В двадцать две минуты восьмого. Около шести второй раз за ночь приезжала «скорая», и сонный врач в грязном халате сонно рассказывал, что скоро уже конец смены и что морфия у него не осталось, и что к концу смены морфия обычно никогда и ни у кого не остаётся.
— Зачем тогда вы приехали? — сказал я. — Я ж объяснил диспетчеру, что нужно.
Врач не мог ответить мне — зачем он приехал. Поэтому он сказал:
— У меня, кажется, есть одна ампула. Но она из неприкосновенных запасов.
— Сколько? — сказал я.
Врач осмотрел жёлтые ногти правой руки и скучно возмутился:
— Что вы такое говорите? Кто же за морфий берёт деньги!
Он порылся в своём саквояже, извлёк ампулу.
— У вас шприц есть? А то шприцы тоже кончились.
Я дал ему шприц. Он сделал маме укол. Измерил давление, Послушал сердце.
— Давление низкое, — сказал он, — но она ещё потянет, — и стал объяснять мне, что нужно колоть ей между уколами морфия.
Я кивал, мол, конечно, обязательно, но совсем его не слушал. Я видел, что ничего маме уже колоть не придётся. Он — не видел. А я — видел. И это было ужасно.
Ужасно было и то, что я оказался прав. В двадцать две минуты восьмого она умерла. Слава Богу, не приходя в сознание. То есть не ощутив нового приступа боли.
Ира взяла её руку и сказала:
— Всё. Кажется, всё.
Те же самые слова три года назад мама сказала нам с Ирой, когда умер отец. Я их запомнил.
А шестнадцатого у мамы был день рождения. Последний день рождения в её жизни. То есть день рождения был и у неё, и у отца. Только отец три года назад умер. А она ещё нет. И два последних года она просила, чтобы её не поздравляли, поскольку поздравлять её теперь не с чем. Мы обязательно ходили в этот день к отцу. А сегодня к нему ни я не пошёл, ни она.
Я принёс маме букет. Налил в вазу воды. Поставил цветы на стол, и они стали пахнуть на всю квартиру.
— Это тебе, — сказал я. — Я хочу, чтобы ты выздоровела.
— Спасибо, — сказала мама. — Я тоже хочу. Но не получится. Надо умирать.
— Кому надо? — спросил я.
— Папа дожил до семидесяти восьми и я дожила. Как обещала. Хватит.
Она действительно, уже будучи совсем больной, говорила, что до семидесяти восьми доживёт, а больше нет. Говорила не один раз. Как будто точно это знала. А я говорил, что не надо подсказывать Богу, как ему себя вести и что делать. Он сам знает, кому хватит, а кому не хватит.
Да, я так говорил, но очень было похоже, что кто-то ведёт маму к могиле упрямо, прямой дорогой. А кто ещё может туда вести?
Началось всё безобидно.
— Что-то мне глотать больно, — сказала мама.
— Выпей чего-нибудь, — сказал я. — Или пополощи горло.
Она заваривала траву, пила чай с лимоном. И вроде горло болело меньше. С чего вдруг оно заболело у неё посреди тёплой весны, никто не задумался.
В начале лета у мамы вздулись лимфоузлы. И она забеспокоилась. Потом они исчезли. Она успокоилась. Потом снова вздулись. И она, видно, заподозрила нехорошее. Зачем-то же она поехала на Космическую.
Там врачиха — злая от безмужья тридцатилетняя баба — заглянула ей в рот и сказала открытым текстом:
— У вас рак миндалины. Это как минимум.
Оттолкнув её, мама вышла из кабинета. Она была в своё время хорошим врачом и понимала, что это такое. Но или не поверила хамоватой врачихе, или решила проверить диагноз. Поставлен-то он был на глаз. Врачиха даже анализ крови не посмотрела, который был у мамы с собой. И мама пошла в девятку. Там работал её старый знакомый. Она говорила:
— Лапшин — очень хороший лор. Я ему верю.
Очень хороший лор сказал:
— Чушь, нет здесь ничего подобного, — и лечил маму больше двух месяцев.
Она уверяла меня, что ей становится лучше. Но потом этот очень хороший лор сказал, что всё идёт очень хорошо, тем не менее онкологу показаться стоит. Он дал маме направление к кандидату меднаук, заведующему поликлиникой онкоцентра. Он даже позвонил ему как коллега коллеге.
К кандидату я пошёл тоже. Сунул ему вместо «здрасьте» полсотни. Кандидат положил деньги в специальный ящик и назначил обследование. УЗИ нужно было ждать три недели.
Кроме того, он отвёл маму всё к той же злой тётке, и она подняла страшный крик:
— Я же сказала вам, что у вас рак. Где вы шлялись больше двух месяцев?
Она посмотрела маме в рот и снова завопила:
— Это преступление! Летом всё было поправимо…
Мама встала с кресла и сказала заведующему кандидату:
— Я к этой хулиганке больше не пойду. Есть у вас другой лор?
— Другого лора у нас нет, — сказал заведующий кандидат. — Но вы успокойтесь, она прекрасный диагност.
Маме от этого было не легче. Пожалуй, наоборот.
Обследование тянулось ещё месяца полтора и всё подтвердило. Маму положили в отделение химиотерапии. Лечащий врач сказала:
— Лимфосаркома в вашем возрасте часто поддаётся лечению.
— А у меня лимфосаркома? — сказала мама и посмотрела на меня. Результаты биопсии из лаборатории забирал я.
— Злокачественные клетки есть? — спросила она, когда я пришёл домой.
— Они сами точно не знают, — сказал я. — В одном анализе есть, а в другом — нет.
Собственно, так оно и было. Единственное, что я утаил — это само слово: лимфосаркома. И даже не утаил. Мама не спрашивала, о каких именно злокачественных клетках идёт речь, а я не уточнял.
Врач посмотрела в направление ещё раз и сказала:
— Да. Тут так написано.
— Ладно, — сказала мама. — Нужно же мне от чего-то умирать.
До Нового года маме провели три курса. И сначала химия вроде бы помогла. У неё не только лимфоузлы стали нормальной величины, но и все родинки с лица исчезли. А их к старости появилось много. В следующий раз я должен был отвезти её на Космическую девятого. А до того времени ей дали от лечения отдых.
Мама сама накрыла новогодний стол.
— Для кого третий прибор? — спросил я.
— Для Эли, — сказала мама.
— Эля не приедет, — сказал я. — Если она уйдёт в новогоднюю ночь, её сын этого не поймёт.
— Хорошо, — мама убрала третий прибор в шкаф, — посидим вдвоём. Посмотрим телевизор.
Я выпил. Закусил. Мама тоже что-то ради праздника съела.
Звонил Колючий и желал, чтобы мама в новом году выздоровела.
Звонили и другие. Желали все одного и того же, все — несбыточного.
А после звонка Эли я ушёл спать. Мама тоже легла. Такая у нас, значит, получилась весёлая встреча Нового, 2002-го года от Рождества Христова.
И наступило третье января этого года.
Я ушёл из дому. Ненадолго. Я хотел только поздравить свою знакомую — мы вместе работали. У неё родились две внучки. От неё я сразу позвонил домой. Телефон не отвечал. Я позвонил ещё. Опять много длинных гудков. Наконец мама ответила.
— У тебя всё в порядке? — спросил я.
— Да, — сказала мама. — Только я упала. Но ты не торопись. Ничего страшного.
Я подумал и сказал:
— Хорошо, пойди в мою комнату и возьми трубку радиотелефона, положи её рядом с собой. Я буду позванивать.
— Не знаю, — сказала мама. — Встать с пола я не могу и доползти, наверно, не смогу. Далеко. Я и так еле добралась из ванной.
Тут мне стало понятно, что дело плохо. И я побежал ловить такси.
Мама лежала в своей комнате на ковре, свернувшись у кресла. На кресле стоял телефон. Трубка, натянув шнур, лежала на полу.
Я поднял маму и понёс к дивану.
— Осторожно ногу, — сказала она. — Бедро.
— Ты сломала шейку бедра? — спросил я.
— Нет, — сказала она. — Я себя ощупала. Нога цела. Просто сильный ушиб.
— Ты уверена?
— Уверена.
Позже она рассказала, что, заперев за мной дверь, пошла в ванную, споткнулась о коврик и упала.
Значит, на полу она пролежала не меньше часа.
— Зачем ты пошла в ванную? — спросил я.
— Не знаю, — сказала мама.
А коврик мы купили с Элей. Буквально накануне. Шли по городу, увидели магазин ковровых покрытий, зашли и купили. Чтобы из ванны вылезать было не так холодно и не так скользко.
К сожалению, мама ошиблась. Ногу она сломала. Причём именно шейку бедра. Это выяснилось через месяц. Я привёз домой её врача с Космической. О боли в ноге она мне сказала:
— Это могут быть метастазы. Курс долго оттягивать нельзя, — она посмотрела мамины бумаги. — Итак уже больше месяца просрочили.
— Что нужно делать?
— Для начала рентген.
В районной поликлинике сказали:
— Сейчас нет плёнки. Дней через десять привозите.
— На чём я могу её привезти? У вас карета есть?
— Мы поликлиника, — сказали мне, — а не скорая помощь.
Я позвонил в больницу, где мама проработала полжизни. У них плёнка была и была карета. Мы с сыном погрузили маму на носилки, поставили их в машину и поехали. В больнице выгрузили и отнесли в рентген-кабинет. Мама совсем ничего не весила.
— Это шейка бедра, — сказал рентгенолог, только положив маму на стол. — Никаких сомнений.
А я заставлял её ходить с палкой, говоря: «От ушиба ещё никто не умирал. Зато от саркомы — сколько угодно». Я надеялся, что она расходится, и её можно будет отвезти на Космическую — провести очередной курс химии. Я думал, это ушиб.
Мама меня слушалась. Ходила по комнате с палкой, опираясь ещё и о мою руку. Как она становилась, как шагала поломанной ногой, я до сих пор не понимаю. Но становилась и шагала…
С таким переломом в онкоцентр не брали. Я ездил туда несколько раз, но добиться ничего не смог. Тогда я стал уговаривать врача провести курс химии дома. Уговаривал долго и упорно. Она долго и упорно сопротивлялась, говоря, что бесплатные лекарства тем, кто не лежит в центре, не положены, что мне самому придётся покупать дорогие препараты, что это риск и что ей не хочется идти под суд. Много раз объяснив, какой это риск и как ей не хочется под суд, она согласилась. И сделала всё, что можно было сделать в мамином случае и в наших условиях.
А в памяти у меня засело, что бутылки с физраствором для капельницы она привязывала к швабре.
Два курса не помогли. Маме становилось хуже.
Звонила бывшая жена. Спрашивала, как мама. Я говорил:
— Умирает.
— Ты не преувеличиваешь? — спрашивала бывшая жена.
— Ира, я преуменьшаю, — отвечал я.
Спасибо, она поверила и стала приходить. Вполне могла не поверить.
Эля тоже приезжала из своего Верхнедзержинска. В основном по пятницам. Приехав девятнадцатого утром, она сказала, что сегодня ей нужно вернуться. Зашла к маме, побыла с ней, вышла в мою комнату.
— Поезжай на кладбище, пусть роют могилу.
— Ты рехнулась? Она жива.
— Она хочет лежать рядом с отцом?
— Конечно.
— Тогда делай, что говорю. Чтобы вырыть могилу вручную, нужно время. А держать тело дома будет нельзя.
Сам я такого решения принять ни за что бы не смог. И слава Богу, что его приняла Эля. Мне оставалось только подчиниться. И позвонить безотказному Шурику:
— Ты можешь приехать? — сказал я.
Безотказный Шурик сказал, что сейчас он едет выдавать людям командировочные, так как вечером они уезжают в Сумы.
— Шурик! — сказал я. — Очень надо.
Он сказал:
— Хорошо. Я уже сворачиваю на мост.
Дальше Шурик всё делал сам. Сторговался с могильщиками, заехал в гостиницу «Патриотическая», заказал в её кафе поминальный обед.
— На когда? — спросила администраторша кафе.
— На когда, я скажу позже, — ответил Шурик. — Но будьте готовы на завтра.
После нашего возвращения Эля уехала. А я позвонил бывшей жене.
— Ира, — сказал я. — Ты можешь прийти?
— Слушай, я очень устала. Попроси сегодня кого-нибудь ещё.
Так мы остались с мамой вдвоём, и мама начала умирать.
Она уже явно не понимала, что говорит.
Чаще всего она говорила: «Дай, я тебя обману». И протягивала ко мне руки. Я наклонялся к ней, и она меня обнимала. Каждые пять минут она просила пить. Чего не делала уже двое суток. Я подносил ей ложку к губам, а она сжимала их и мотала головой. Потом стала бить рукой по матрасу и кричать: «Нет, так я не хочу». Видимо, боль становилась невыносимой. Я сделал ей два укола трамадола. Они не помогли.
В одиннадцать позвонила бывшая жена.
— Что там у вас?
— Ира, ты же знаешь, что…
— У тебя кто-то есть?
— Кто?
— Так ты один?
— Один.
Через полчаса она приехала. Я сказал ей «спасибо». Она сказала «да ладно».
Глава 6
Месяц после двадцатого
Как он прошёл, этот месяц после двадцатого апреля, я не помню. Совсем не помню. Может, быстро, может, медленно, а может, ещё как-нибудь. Я его упустил, не заметил. И не смогу сейчас вспомнить из этого месяца ничего, даже если напрягу все остатки своей памяти. Никаких событий. Помню только — я не мог отделаться от ощущения, что нужно позвонить домой. Мне всё время навязчиво казалось, что это обязательно нужно сделать. И сделать немедленно. И я всё время должен был себе напоминать, что дома у меня никого нет и что звонить мне некому. В тот месяц у меня даже кошки не было. Потому что она ещё не родилась.
День, с которого я опять всё помню — это двадцатое мая. В этот день Эля приехала на семинар. И неделю мы провели вдвоём. Так сказать, по-семейному. Готовили общую еду, ходили вместе в магазины, возвращались домой — я с работы, она с занятий. Здоровались со старухами у подъезда. Старухи нам наперебой улыбались, а за спиной перешёптывались и строили догадки: Эля — это моя новая жена или так, временная подруга на чёрный день.
Нам с Элей нравилось, что они о нас сплетничают, и мы им давали для этого сколько угодно поводов. То пригласили к себе моего сына, то Эля приехала вдвоём с моим приятелем Стекловым — телеведущим, которого все узнавали. А я появился через час и с другой стороны. Потому что в тот день освободился позже, чем рассчитывал. Старухи с замиранием сердца ждали, что будет, когда я войду в квартиру и застану там Элю со Стекловым. Но ничего не было. Старухи наших принципов мирного сосуществования постичь не могли и понемногу в нас разочаровывались.
В субботу мы проснулись поздно. Всю неделю Эля вскакивала в семь утра и бежала на свой семинар. Обогащаться иностранным опытом. Но вчера семинар закончился, и сегодня она валялась в постели обогащённая. Настолько, что никак не могла окончательно проснуться.
Часов в одиннадцать мы всё же позавтракали. Я позвонил в Москву. Поздравил Игоря с днём рождения. Пожелал ему всякого и разного. Сказал: «Не забывай, что ты какая-никакая, а совесть нации, береги себя». Игорь клятвенно обещал беречь и не забывать. Спрашивал, как я и что. Я говорил, что не слишком, конечно, но уже лучше.
— Что у тебя теперь с Ирой? — спрашивал Игорь.
— С Ирой теперь у меня ничего, — отвечал я.
— А с кем у тебя теперь?
— Теперь у меня с Элей. Привет тебе от неё с пожеланиями.
Пока я звонил, Эля начала собирать свою дорожную сумку. Это всегда грустное занятие — собирать сумку. Когда едешь куда-то — ещё ничего, а когда уезжаешь… И нам от вида дорожной сумки и её внутренностей стало грустно. Мне — ещё грустнее, чем Эле. Потому что грустнее, чем уезжать — только оставаться. А я оставался. Оставался один. Один в пустой квартире.
Обедать мы пошли в парк Глобы имени Чкалова. То есть этот парк всегда назывался «Чкалова», потом его переименовали в парк Глобы. Памятник Чкалову у входа — оставили, памятник Глобе — доустановили. Получился гибрид — парк Глобы имени Чкалова. Кто такой Чкалов, теперь уже мало кто помнит, кто такой Глоба — мало кто знает. Большинство населения подозревает, что это астролог, мотающийся по всему бывшему СССРу с гастролями, в ходе которых предсказывает конец всему. Чем собирает стадионы и дворцы спорта. Знатоки-краеведы утверждают, что Глоба — это украинский казак по имени Лазарь, у которого был на этом месте садок вышнэвый биля хаты размерами с парк Чкалова.
А ныне здесь излюбленное место отдыха трудящихся и праздных горожан, а также гостей моего города.
Мы в этом излюбленном месте купили сковородку мяса и два пива. Сидели за столиком, ели острое жаркое, грелись на майском солнце и говорили о необязательном. Целовались.
— Ну прямо как молодые, — говорил я.
— А я и есть молодая, — говорила Эля.
— Да, — говорил я. — Если сравнивать со мной, ты юница.
Эля на моё беззлобное хамство сердилась. Но так, для проформы.
Телефон у неё зазвонил, когда мы уже брели по бульвару. Я тащил на себе её сумку. Ремень резал плечо. Эля шла чуть впереди, покачивала бёдрами. Двигались мы в сторону вокзала. Потому как с вокзала отправлялись маршрутки в Верхнедзержинск.
Эля прижала трубку к уху и послушала, и спросила:
— Когда?
Потом сунула телефон в сумочку.
— Что-нибудь случилось?
— Мишка звонил.
— И?
— Вызов пришёл.
Естественно, я тоже спросил:
— Когда?
— Вчера, — сказала Эля.
Не знаю, почему мне это взбрело в голову, но я сказал:
— Значит, в день рождения Бродского.
Эля промолчала. А я сказал:
— Видно, полоса такая пошла, поэтическая. Дни рождения поэтов следуют один за другим. А мы тем временем живём сами по себе. По своим, так сказать, канонам и правилам.
— При чём здесь дни рождения поэтов? — сказала Эля.
А я сказал:
— Ну как же? Сегодня вот Игорь родился, вчера Бродский.
Идея уехать принадлежала мужу Эли. Пять лет назад (когда о моём существовании Эля не знала даже понаслышке), он подбил её взять анкеты. Ей уезжать не хотелось. А уехать без неё ему не позволяло арийское происхождение.
— Зачем тебе это? — спрашивала Эля. — Тебе, по-моему, и здесь неплохо.
— Неплохо, — говорил муж. — Но томища. А мне свободы хочется. Я свободу передвижений имею в виду. Чтобы вся Европа под ногами. Включая Париж и страны ближнего Бенилюкса.
Своими евромечтами он проедал Эле плешь до тех пор, пока она клятвенно не пообещала его вывезти. Подумала: «Почему бы и нет? Мишке там должно быть лучше, а я перестану зависеть от мужа материально». Надоело ей к тому времени от него материально зависеть. Сильно он всё-таки был прижимист, хотя, конечно, и широк душой.
Да и ни к чему эти анкеты никого не обязывали. Можно было их взять и подать документы, а потом, если что, не поехать, остаться. По нынешним временам всё это можно. «Свобода, бля, свобода, бля, свобода».
Так что Эля съездила в посольство, взяла анкеты на всех, и ко времени просто жизни у неё прибавилось время ожидания отъезда. Причём время просто жизни всё так же бежало и даже летело, а время ожидания, как и положено, тянулось. Два года прошло, пока документы у них приняли, и три — не было из посольства ни слуху ни духу. Эля уже думала — отказали. И совсем перестала вспоминать, что собирается валить. Она и мне об этом сказала вскользь, к слову. Когда общие друзья посвятили нас в свой, точно такой же замысел.
А тут, значит, пришёл вызов. Всё-таки пришёл. Не отказали.
Мы пошли чуть быстрее. Старые акации стояли вдоль бульвара шпалерами. Они закрывали от нас солнце, и нам не было жарко.
До отъезда Эли был у нас ещё год. Это максимум.
Когда он пройдёт, мэр (в городе его называли мэрваська) вырубит все эти акации и продаст их шашлычникам на дрова.
Эля уедет.
И хорошо, что она не увидит, как будут уничтожать бульвар. Уж очень она его любила.
Глава 7
Старые акации
А уничтожали не только бульвар, не только акации, постепенно уничтожали город. Хочется сказать «планомерно уничтожали», но это не так, это неправда. Его уничтожали хаотически. Без какого бы то ни было плана, без какой бы то ни было стратегии или простейшей тактики.
Уничтожали, даже когда что-то возводили, даже когда пытались окультурить. То построили смешной конфигурации домину, которую горожане тут же обозвали мошонкой, то поставили памятник академику, изобразив его босиком и в ночной рубашке.
А однажды мы с художником Колючим обнаружили совершенно новую, не известную нам, городскую достопримечательность. Тоже памятник. Он был тихо, без шума и лишней помпы, поставлен соратниками какому-то генералу ВДВ. Изготавливали монумент, судя по всему, умельцы-дембеля в ремонтных мастерских ближайшей десантной дивизии.
Художник Колючий сделал вокруг генерала два витка, а на третьем упал на землю и стал по ней кататься. Кататься в припадке нездорового хохота.
— Смотри! — кричал хохоча Колючий. — Смотри.
Я посмотрел. Фигура генерала была сложена из трёх отливок, стоявших одна на другой, как шары снеговика. Между собой отливки связывали толстые швы аргонной сварки. А больше ничего необычного и тем более смешного в памятнике я не увидел: мужик в сапогах шестидесятого размера, поверх сапог — штаны с наварными лампасами, выше — генеральская шинель, ещё выше — фуражка. Из спины у генерала торчало нечто волнообразное. При этом, как водится у наших памятников, взглядом он упирался в даль.
— И чему ты радуешься? — сказал я. — Жуть какая-то.
— Это парашют, — кричал Колючий. — За спиной у него — парашют.
— Ну и что?
— А то! Что этот генерал по замыслу скульптора прыгал с парашютом в фуражке, в шинели и в штанах с лампасами. Видишь лампасы? Видишь?
Пока мы осматривали генерала с его лампасами, вокруг нас собралось много больших, тяжёлых мужчин. На их животах и ляжках трещала ставшая тесной военная форма, береты были сдвинуты на затылки. Из-под них дыбились чубы и залысины. Мужчины окружали нас и нехотя молчали.
— Кажется, сегодня день воздушно-десантных войск, — сказал я Колючему.
— Да? — сказал Колючий. Он вскочил и огляделся: — Бежим, убьют!
Мы рванули к центру. Бывшие десантники толпой рванули за нами. И, конечно, в любой другой день они бы легко нас догнали. А в этот — не догнали. Потому что все они были пьяны. Чрезмерно, слишком пьяны. Всё-таки напиваться до такой степени десантники не должны, даже если они бывшие десантники. Но они всегда напивались в свой день именно до такой степени. И это дало нам счастливую возможность уйти от них дворами, а на проспекте нырнуть в литмузей — там на вахте сидел постовой с пистолетом и в бронежилете.
Оказавшись в безопасности, художник Колючий сел на своего конька — что это всё не так смешно, как кажется, что это и есть общий уровень нынешней культуры, что даже при коммуняках он был выше, и всё то же всё в том же духе.
Музейные ему сначала сочувствовали, потом заскучали, и одна из них сказала:
— Шура, какой уровень, о чём ты? Вчера, на открытии выставки Макса Волошина, подошла ко мне журналистка с областного ТВ. Говорит: «Елена Васильевна, если честно, я не знаю, кто такой Макс Волошин, но мне надо сделать сюжет о выставке. Помогите, пожалуйста». Я смотрю, девочка честная, вежливая — стала перед камерой и давай ей рассказывать. Мол, серебряный век русской поэзии, дом Волошина, Коктебель, Цветаева, А. Толстой, пятое-десятое. Девочка всё это внимательно выслушала и говорит: «Спасибо, вы так меня выручили. А нельзя ли теперь поговорить с самим художником?» — научная сотрудница тяжело вздохнула, и её тяжёлая грудь тяжело поднялась и тяжело опустилась на место. — Так она же университет окончила. А ты говоришь «десантники».
Я часто жалею, что многие из тех, кто любит город, не могут из него уехать. Уехать именно для того, чтобы не видеть, что с ним творят его же горожане и что творится с самими этими горожанами.
Нет, серьёзно — от десантников хоть убежать иногда можно. А куда ты денешься от областного телевидения? Или от мэрваськи? Вернее, я-то денусь, а город? Город целиком и полностью в их руках. Именно поэтому дома, который строил брат Достоевского, теперь нет, именно поэтому гостиницу в стиле украинского барокко скрестили с, извините за выражение, плазой, именно поэтому добрались до бульвара с его акациями.
Художник Колючий всю свою жизнь, бесконечно рисовал эти акации. Всю жизнь — одни и те же акации. Весной, летом, осенью, зимой. Маслом, карандашом, тушью.
Когда их попытались спилить впервые, он восстал, обзвонил все телестудии и дал им на фоне обрубков интервью.
— Это же янычары, — кричал он в микрофон. — Они всё уничтожат. Они хотят, чтоб я тут никогда не гнездился.
Телевизионщики, конечно, прикрыли себе зады — выслушали и другую точку зрения. И с этой другой точки туповатый дядя из зеленстроя объяснил им, что никто ничего не уничтожает, что акации, наоборот, путём спиливания омолаживают. И всё тут по науке.
Художник Колючий посмотрел в новостях сюжет и понял, что ничего его крики не дали. Он подстерёг мэра, когда тот приехал на работу, ворвался к нему в лифт и в лифте всё объяснил — и про новых янычар, и про уникальность старых акаций, и про то, что он до президента с «Гринписом» дойдёт, не поперхнётся.
И надо сказать, ему удалось оттянуть расправу. Акации оставили в покое на целый год. Чем этот год топили шашлычники свои мангалы, неизвестно. Но теперь всё уже в порядке, и у них нет недостатка в топливе.
А художник Колючий мне теперь говорит:
— Уезжай отсюда, уезжай! Ты ж знаешь, мне очень жалко, что ты уезжаешь, но ты всё равно уезжай.
Пока у тебя есть такая возможность.
Глава 8
Понты
Скажите, любите ли вы понты так, как люблю их я? И знаете ли, что вообще это такое — понты? Тем, кто не знает, я скажу. Понты — это жизнь. Жизнь определённой части людей, населяющих постсоветское пространство от края до края и от Владивостока до Кушки. Хотя, я думаю, что понты играют важнейшую роль в жизни населения всей планеты. Так как без понтов очень многие люди из числа населения чувствуют себя в жизни скучно. Скучно и противно. Зато с понтами они ощущают свою значимость, переоценить которую трудно, а то и невозможно. Во всяком случае, так им кажется.
Он позвонил в час ночи и назвал пароль:
— Я по объявлению.
— По объявлению? — со сна я решил, что опять какая-нибудь «Бесплатно всё и всегда» по ошибке напечатала мой телефон в разделе «Он ищет его», и теперь недели две жить дома будет невозможно.
— Ты меня не понял, — сказал он. — Я! По! Объявлению! Это, пала, пароль.
Тут я быстренько всё вспомнил и, презирая себя за участие в этой худсамодеятельности, произнёс отзыв:
— Я не даю объявлений.
— В десять, пала, у фонтана, — сказал он.
— Как я вас узнаю?
Он захохотал.
— Я сам тебя, пала, узнаю.
— А мы что, уже с вами на «ты»?
— Не знаю, как ты, а я со всеми на «ты».
Похоже, я таки влип. Столько лет избегал я чёрной работы! Столько лет блюл свою (почти чистую) профессиональную совесть! Я и сейчас бы её соблюл, если б мне так остро не понадобились деньги. Всё-таки нормальные люди с совсем пустым карманом не уезжают. Да ещё в моей ситуации. А тут они сами шли ко мне в руки, деньги. Конечно, такие ребята могли и кинуть, не заплатив за работу. Против них же не попрёшь. Но тут я, как мог, подстраховался. Сказал:
— Только условие: платить каждую неделю. Вы получаете то, что я за неделю сделал, я получаю то, что заработал.
— Не, так не пойдёт, — сказали они, посовещавшись прямо в моём присутствии. — А вдруг ты фуфло сгоняешь? Ты учти, Шеф всё, что идёт от его личного имени, сам читает. Своими глазами. Так что представишь всё по утверждённому прайсу: детство, отрочество, юность и зрелость. Он даст добро — получишь бабки. Не даст — будешь писать до тех пор, пока даст. Но срок — до декабря. В случае каких-нибудь форсмажоров — до Нового года.
В конце концов, договорились до того, что я получаю пятьсот зелёных ежемесячно. А окончательный расчёт — после того, как заказчик примет всю работу целиком.
Меня это устраивало. Пахать тут никак не меньше полугода. Даже если упираться и рвать на себе жилы. Значит, помесячно я вытащу из них три тысячи. И, значит, не заплатить у них будет возможность всего только полторы. Потому что сошлись мы на четырёх с половиной. Хотя я просил пять. Мой московский приятель, который всё это мне и подсуетил, сказал: «Проси пять. Больше не дадут. Эти олигархи — жлобы редкие. И самые из них редкие те, что из тени собираются выползать на свет. Собираются, но не хотят».
Он знал, что говорил, мой московский приятель. Мне они и пять не дали, сказали, что бюджет проекта (ну везде у них теперь проекты с бюджетами!) предусматривает четыре с половиной. Возможно, остальные пять или десять они взяли себе. Я-то ни их бюджета, ни их олигарха никогда не видел. Даже по телефону с ним в процессе работы не говорил. Один раз имел честь и удовольствие общаться с московскими шестёрками, дальше — с двумя идиотами, представлявшими его олигархические интересы у нас в городе.
И только когда я всё закончил, он наградил меня радостью личного телефонного общения.
Сначала я не мог себе объяснить — почему они решили эту работу отдать мне. Что, в Москве мало специалистов, способных сделать её так, как я и гораздо лучше?
— В Москве таких специалистов немало, — сказал мой московский приятель. — Один из них я. Но я возьму за такую книгу, минимум, пятнадцать, а не пять. А этот урод за пятнадцать на Красной площади удавится.
— Ага, значит, ты предлагаешь мне демпинговать. А что скажет антимонопольный комитет?
Приятель шутку не оценил.
— Короче, твой телефон и самые лучшие рекомендации они получили, а там поступай, как знаешь. Но учти, в какой-нибудь Беларуси или Молдове им за штуку то же самое сделают с дорогой душой.
В общем, я согласился. Теперь передо мной стояло несколько задач: написать жизнеописание этого сраного олигарха, получить оговоренные деньги (а значит, удержать втайне свой скорый отъезд. Если они о нём узнают — фиг я что получу) и попасть в Германию до дня рождения ребёнка. Чтобы увидеть Элю беременной.
Часть этих задач я решил. Часть нет…
В нашем городе фонтан — это место встреч. Как в когдатошном ГУМе. Только у нас фонтан спокон века не работает, не бьёт то есть. У нас сухой фонтан. И у этого сухого фонтана встречаются все — алкаши, панки, проститутки разной степени сложности, депутаты с клиентами.
Ко мне у фонтана подошёл человек вполне приличного вида. Такой аспирант-отличник, только без очков в тонкой оправе.
— Это вы мне звонили? — в моём тоне явно слышалось удивление.
Аспирант улыбнулся.
— Нет, звонил мой помощник.
Я тоже улыбнулся.
— Референт?
Аспирант улыбнулся шире.
Итак! Суть проекта…
Нет, ну почему всё у них теперь называется «проект»? Ну любое говно!
— А как вас зовут? — перебил я аспиранта. — Надо же мне как-то вас звать.
— Зовите меня Аспирант, — сказал он.
— Вы шпион?
— Все мы в этой жизни шпионы. В некотором, конечно, роде.
Звучало это глубокомысленно. Но глупо. Ничего глупее я ещё никогда не слышал.
— Итак (он очень любил слово «итак», он просто был от него без ума)! Вы под расписку получаете пакет документов о жизни и деятельности Шефа. Пишете главу или две — это на ваше усмотрение. Файл называете «Книга 2003» плюс порядковый номер. По воскресеньям мы согласно перечню принимаем у вас отработанные документы. Под расписку выдаём следующий пакет. Записываем файл на диск, и вы удаляете его из своего компьютера. В нашем, уж извините, присутствии.
— Вы что, будете жить в моей квартире?
Аспирант улыбнулся.
— В вашей квартире жить — нельзя.
— Да? А я живу… Постойте! А откуда вы знаете — можно или нельзя? Вы что, бывали в моей квартире?
Аспирант опять улыбнулся.
— Конечно. Мы обязаны были всесторонне проверить, что вы за птица.
— Но у меня же там две двери. Замков четыре штуки, кошка в конце концов.
Аспирант снова улыбнулся.
— Надеюсь, у вас ничего не пропало?
— Не знаю. Надо посмотреть.
— Посмотрите. А то вы себе не представляете, с кем иногда приходится работать.
— А с кем мне приходится! Вы бы только знали.
— Итак! Вам всё ясно?
— Всё. Но я же могу оставить копию файла себе.
Аспирант улыбнулся.
— После удаления мы пройдёмся по жёсткому диску поиском.
— А если я файл переименую? Или положу на свой сайт в Сети? Или отошлю по электронке в любую точку земного шара?
Аспирант улыбнулся. И держал улыбку с минуту.
— Неужто в любую? По-моему, вы преувеличиваете возможности так называемой Сети.
Он не понимал, что несёт полную ахинею. Он был уверен, что у него всё продумано до мелочей и тайна вкладов гарантирована.
— Я не советую вам всего этого делать, — сказал Аспирант. — Иначе с вами будет разбираться мой помощник.
— Тот, который референт?
Аспирант выразил недовольство моим отношением к проекту — он поморщился.
— Вас же предупреждали. Никто не должен знать, кто на самом деле писал книгу. Полная секретность. К слову, методика обеспечения секретности разработана СБШ в Москве. А там не дураки сидят.
— Это я уже понял. Что такое СБШ?
Аспирант улыбнулся:
— Служба безопасности Шефа. Шеф методику лично одобрил. Вам это о чём-нибудь говорит?
— Ладно, — сказал я. — В смысле, итак. Когда я получу документы?
— Сегодня в двенадцать. Вам удобно?
— Сегодня мне удобно в любое время. Всё равно день пропал.
Ровно через час после двенадцати у моего дома остановился джип. Настоящий внедорожник, на каких ездят по прериям и джунглям. Из него головой вперёд вылез типичный, классический пацан размером с памятник. Вошёл в мой подъезд. Когда в дверь позвонили, я открыл, не задавая лишних вопросов.
— Здорово, — сказал пацан, и я узнал его голос. Ночью звонил мне он.
— А мой помощник разве не у тебя?
— Кто у вас помощник?
— Как кто? Этот… Аспирант. Он обещал, пала, быть в двенадцать.
— Мне тоже обещал. Скажите, а как вас зовут?
Пацан задумался на всю свою голову.
— Меня? Меня. В этом проекте меня зовут Штангист, — он прошёл в спальню.
— Слушай, как тут можно жить, пала? Ты когда ремонт делал?
— Ремонт делал сосед сверху одиннадцать лет назад. Когда залил квартиру горячей водой. Тогда ещё горячая вода была. А он к мойке шланг прикрутил своими руками, которые у него не совсем оттуда растут. И гайку сорвало. Ремонт сосед делал теми же самыми руками.
— Да, руки у твоего соседа, пала… А давай мы их ему в дверь заложим — пальцами.
Предложение показалось мне симпатичным, но я его не принял.
— Не надо, пусть будет как есть. Вы лучше работу давайте.
— Работу Аспирант принесёт.
— А где Аспирант?
Штангист прикидывал, смотрел на часы, пожимал бровями, но так ничего и не прикинул.
— Хрен его знает, этого Аспиранта. Он всегда, пала, опаздывает. Даже в сауну, даже в кабак, даже к девкам.
В половине второго на такси приехал Аспирант.
— Извините, дела, — сказал он.
— Да какие у тебя в хуя дела? — сказал Штангист.
Аспирант улыбнулся.
— Итак.
Он вытащил из кожаного портфеля кожаную папку. Открыл.
— Пятьдесят восемь страниц. Удостоверьтесь и распишитесь. Вот здесь.
Я пролистал папку. Расписался. Аспирант снова полез в портфель и вынул мобильный телефон.
— Это вам.
— Зачем? У меня есть.
— Этот — на время осуществления проекта. В его памяти два номера — мой и моего помощника.
— Это кто у тебя помощник? — вмешался Штангист. — Это я у тебя, пала, помощник? — Штангист захохотал. Аспирант улыбнулся.
— Если будут вопросы, звоните. Если будут вопросы у нас, позвоним мы. Для других целей этим телефоном, пожалуйста, не пользуйтесь.
Он вызвал такси.
— На хера тебе такси? — возмутился Штангист. — Я ж на тачке.
— Мне в другую сторону, — сказал Аспирант и откланялся.
А Штангист остался и предложил мне как следует выпить. Я сказал, что у меня теперь очень много работы. Если выпивать — в сроки могу не уложиться.
Штангист обиделся:
— Ну у всех, пала, понты. У одного дела, у другого срока. А народ страдает.
Он ушёл по-английски не прощаясь и по-русски матерясь, завёл свой джип и отъехал, и затерялся среди других таких же джипов в дебрях каменных джунглей.
Глава 9
Путь на запад начинается с востока
За несколько дней до того, как я подрядился писать книгу от имени Шефа, кончился год, отпущенный нам с Элей германским командованием. И Эля двадцать пятого мая уехала. В день рождения Игоря, кстати. Игоря и моей кошки. Кошка тоже родилась двадцать пятого мая. Только кошка — год назад, а Игорь — гораздо раньше. И я о нём в этот год забыл. Потом уже вспомнил, позвонил, но дома никого не застал, а говорить с автоответчиком у меня не получается.
Да, Эля уехала. А весь предыдущий год она меня убеждала всеми силами и средствами. Я, сколько мог, держался. Давно взяв анкеты, всё не знал, решусь на отъезд или не решусь.
Эля говорила: «Это когда-то уезжали навсегда. Безвозвратно в полном смысле слова. А сейчас не эмиграция, а туризм. Туда-сюда катайся, живи, как хочешь. Никому до этого нет дела. Особенно если ты денег не просишь, а сам их зарабатываешь».
Я её слушал и соглашался. Что мне ещё было делать? Навсегда, безвозвратно, я бы не поехал, а остался. Мне навсегда нельзя. У меня тут могилы. И сын. И дочь. Пусть жены бывшей сын и дочь, а не мои, а всё равно мои. Пятнадцать лет я с ними. Как же не мои? И язык — мой. Мне же нужно, чтобы он звучал. Фоном чтобы шёл. Ритмы его нужны, синкопы с форшлагами. Но об этом я уже молчал. Думал — да, думал постоянно. Но — молчал.
А Эля говорила: «Будем приезжать. Жить будем, как люди, в европах, а сюда будем — приезжать». Я говорил: «А муж твой?» На что Эля отвечала: «Он мне давно не муж, и ты это прекрасно знаешь». «Но разводиться же с ним придётся?» «Придётся. Вот вывезу его и сразу разведусь. А там и ты подоспеешь».
Я понимал, что сразу ничего не бывает. Но в марте у Эли появился ещё один аргумент, самый последний. В марте она забеременела. Хотя вполне могла сделать это и раньше. Однако получилось не раньше, а вовремя.
Честно говоря, я от себя такого уже не ожидал. И никто, думаю, не ожидал от меня ничего подобного. Всё-таки не каждый рожает себе детей на шестом десятке. Далеко не каждый. Все мои знакомые ровесники — когда Эля уже родила — звонили и говорили примерно одно и то же: «Нет, — говорили они, — мы давно способны только на внуков. А на детей… На детей не способны».
Я тогда все их восторги и удивления снисходительно принял и пришёл к такому умозаключению: «Пока ты способен делать то, чего сам от себя не ожидаешь, всё ещё поправимо. Всё в порядке».
Эля, видимо, к тому же умозаключению пришла намного раньше меня. Прощаясь, она сказала:
— Давай, собирайся потихоньку. Приедешь — как-нибудь соединимся. Там это всё будет проще. А я, пока ты едешь, ребёнка тебе рожу.
— Ты только двойню не роди.
— Почему нет? Там на детей помощь дают.
— Помощь дают. Но почему ты считаешь, что там всё будет проще?
Тут Эля была не оригинальна. Почти все считают, что жить там проще. Мне самому так казалось. Но я всегда понимал, что могу ошибаться, поскольку был в Германии всего один раз, в апреле девяносто седьмого года, то есть давно. Да ещё в качестве приглашённого на литературные чтения автора. Какие выводы можно после этого делать? В памяти у меня осталось нечто поверхностное, неглавное для повседневной жизни. В том числе, и не имеющее к Германии отношения. Например, то, что на дойчмарки, там заработанные, я купил себе компьютер, сотку. Которая и стоит сейчас передо мной.
Но помню я, конечно, и другое. Правда, всё оно из разряда «помнить-то помню, а что толку»?
Первое впечатление от зарубежья настигло меня ещё в аэропорту, когда я понял, что в туалет нужно ходить по ту сторону нашей границы, даже если это «по ту» находится в самом Борисполе. Но это так — заметка на полях. А вот Люфтганза меня действительно поразила: попав на нашу гостеприимную землю минута в минуту, она прекрасно задержалась с вылетом, так как багаж погрузить вовремя мы не успели, зарегистрировать и обшмонать пассажиров за два отведённых под это дело часа — тем более, ну и вообще — что значат для нас какие-то двадцать пять минут опоздания? Для неё — Люфтганзы в смысле — они тоже ничего не значили, и в воздухе Люфтганза газанула, наверстала упущенное нами на земле и села, как положено, — в означенном месте и в означенное время. Но это позже.
А пока я видел, как на нашей территории меняются немцы. Это во Франкфуртском аэропорту, где самолёты сыплются с неба, как горох, а служители ездят по зданию на электромобилях, они будут спокойно читать дармовую прессу, запивая её дармовым, люфт-ганзовским, кофе (чаем, колой
Вздохнули немцы только на борту своего самолёта. Здесь они снова стали людьми и начали звучать гордо. Здесь они были дома.
Дома в немецком самолёте были и канадцы, и американцы, и прочие французы. Дома чувствовали себя даже мы. Вернее, мы чувствовали себя в гостях — и поэтому лучше, чем дома. Мы здесь, несмотря на свою безъязыкость и чужеродность, были желанны и почти любимы. Ведь если бы мы не были желанны и любимы, разве стали бы подавать нам такое пиво (вино, коньяк, шампанское, соки, воды, и иные жидкости), такой обед, такой кофе? Конечно, за всё уплачено, но самый лучший кофе в Германии я пил именно в самолётах. В остальных общедоступных местах — это был тот ещё напиток тех ещё богов. У нас такой продают на Озёрке в базарный день и в вокзальном буфете до и после полуночи, когда милиция уже спит.
Зато в их аэропорту кофе я наливал себе в коричневые одноразовые чашечки. Они стояли стопками, как горшки в «Операции Ы», и когда человек, выпив кофе, выбрасывал в урну такую великолепную чашечку, мне хотелось украсть их все, увезти на родину, которую не выбирают, и подарить своим лучшим друзьям и подругам — чтобы они пользовались ими в торжественных случаях, принимая самых дорогих гостей. Не знаю, что, но что-то не позволило осуществить мне этот проект (О!). Я наблюдал, как прекрасные чашечки летели в урну, и мою подкорку подтачивал вопрос: «Где, спрашивается, хвалёная немецкая экономность?»
То есть экономности (если забыть о чашечках, что невозможно) хватало. К примеру, мыла в душе лежал такой кусочек, что носки постирать ни за что не хватило бы. Один ещё куда ни шло, а два — ни за что. А за вечер встречи, устроенный в нашу честь, с нас же высчитали по двадцать марок. Ну не свинство ли?
Какие ещё познания я приобрёл? Что из приобретённого могло пригодиться мне в будущей иммигрантской жизни? Очень немногое.
Вот, допустим, узнал я, что мелочи в Германии превыше всего. И о них нужно знать. Для собственной же пользы. Что автоматы, продающие билеты, установлены только в первых вагонах берлинского трамвая, нужно было знать. Когда и какую кнопку нажимать, и что в них запихивать, тоже знать было нужно. Скажем, монеты, меньше десяти пфеннигов, автоматы не жрали. Хотя сдачу с полусотни марок давали беспрекословно. Не мешало знать также, что денег на билет жалеть не следует. Несмотря на то, что стоил он очень дорого. Штраф за безбилетный проезд был вообще бесчеловечных размеров.
Знать нужно и где продают дешёвую еду, одежду, чип-карты, где меняют валюту, где стоит телефон-автомат. Всё это в столице объединённой Германии — совсем не на каждом шагу.
Кстати, о телефонах. Шестнадцатого апреля я звонил родителям. Поздравлял их с днём рождения. Слышно было так, как по телефону слышно вообще не бывает. А звонил я — чтобы было дешевле — не из номера, а из обыкновенной телефонной будки. То есть, по моим представлениям, я звонил из совершенно необыкновенной телефонной будки — жёлтой и звуконепроницаемой, с не выбитыми стеклами, без характерного запаха вчерашней мочи внутри. А возможность позвонить из неё в любую страну мира! Тогда для меня это было настоящим чудом. К счастью — не обошлось без лёгкого идиотизма. Стоимость разговора со Штатами в будке была, а кода страны — не было. Хотя любые другие коды — были. Возможно, все немцы и так знали код США. Но я-то его не знал. И рылся — просто уже ради интереса — в толстенных телефонных книгах. Они висели на специальных кронштейнах. И были достаточно растрепанны, но не украдены.
Вот, пожалуй, и всё… Ну, запомнил я ещё посещение ресторанчика — на улице, между прочим, Чайковского, — запомнил, как хорошо жилось мне в гостинице. Но от этого точно уж никакого проку. Одни приятные воспоминания.
Да, в ресторанчике официант с лицом карибского пирата ничего не записывал. Приносил заказ — и всё. А потом на выходе спрашивал у каждого, что тот ел и пил. Каждый — а нас было человек пятнадцать — отвечал, он — идиот — верил, выбивал чеки и говорил, сколько платить. И если ты не очень понимал немецкий, ты просто давал ему бумажку покрупнее. Он брал, сколько надо плюс пять, что ли, процентов на чай. Без обсчёта. Единственное, что меня хоть как-то успокоило, это объяснение одной переводчицы. Она сказала, что в других ресторанах официанты всё записывают. А здесь он видел, что мы пришли с завсегдатаями, заслужившими доверие на протяжении лет — и верил не столько нам, сколько им.
А о нашей маленькой гостинице знатоки сообщили нам, что во времена Восточной Германии сюда ездили партийно-комсомольские деятели двух дружественных стран — СССР и ГДР — трахать фигуристок. Почему фигуристок, а не кого-то другого, знатоки не сообщили.
Номера здесь и в самом деле выглядели функционально: широкая кровать — одна, стол — один, стул — один, так что гостью удобнее всего посадить на кровать. Работали в гостинице муж и жена. Они же ею владели. Чистота тут стояла, как в реанимации, санузел не только сиял, но и пах. В смысле, чем-то неуловимым и ласкающим нюх. А немецкая туалетная бумага принципиально отличалась от нашей. Своей пупырчатостью и многослойностью. Всех преимуществ такой бумаги описывать не буду, они в прямом смысле ощутимы.
В шесть утра можно было выходить завтракать. Поесть следовало до десяти. Но и в одиннадцать тоже можно было поесть. К сожалению, на себе из столовой ничего просили не выносить. Говорили — не принято. А там столько всего подавали на завтрак, что вполне хватило бы на ужин и обед. Поэтому я приходил завтракать с салфеткой или с куском туалетной бумаги. Чтобы не класть еду непосредственно в карманы. Впрочем, достаточное количество еды имело автономную упаковку, и это облегчало задачу. А хозяева, небось, думали, что колбаски, паштет, сыры и остальное русские писатели поедают вместе с упаковкой. И считали, что нам, малоцивилизованным, это простительно. Возможно, они говорили друг другу: «А-а, пусть! Лишь бы по-крупному не воровали».
К сожалению, воруют или не воруют сами немцы, я так и не выяснил. Телефонные книги в будках висели, зонтики в вестибюле гостиницы стояли — бери не хочу. И никто не хотел. А велосипеды у магазинов пристегивали к специальным стойкам. Значит, боялись, что могут их спереть.
Да, забыл. Вот это как раз знать не повредит всем — и туристам, и эмигрантам, и прочим категориям граждан, собирающимся пожить в Германии. И у немцев техника ломается! Как миленькая. Когда я улетал, на въезде в аэропорт Tegel сломалось табло. Оно указывало, откуда какой самолёт отправляется — чтобы к терминалу можно было прямо на машине подъехать.
Правда, немцы не растерялись. Они поставили под табло самых красивых девок, каких только смогли найти в своей столице, и те тормозили все машины, спрашивали, на какой рейс у пассажиров билеты, и показывали, в какой сектор сворачивать. Чтобы им, не дай Бог, не пришлось проехать лишних двадцать метров.
А в целом, что-то было в моей поездке очень хорошо, что-то — не очень. «Не очень» в основном наступило по возвращении. Когда посмотришь на чужую жизнь, хочется как-то подправить свою. А это невозможно. Естественно, расстраиваешься. Не прикажешь же себе не расстраиваться. Не прикажешь.
Но желания там жить у меня не появилось. Нет, не появилось. Почаще приезжать — я бы с превеликим удовольствием. И мне было жаль, что это практически несбыточно — как бывает жаль всего того, что несбыточно.
Глава 10
В одиночку
Ладно, проехали. Кто знает, что сбыточно, а что нет!
Итак, я влип в проект. Влип, пала, всеми четырьмя. Но как ни парадоксально, эта паршивая работка стала для меня чуть ли не подарком судьбы. Без неё мне, конечно, тоже было чем заняться в гордом одиночестве, но с ней… У меня совсем не оставалось свободного времени суток. Что и требовалось. Как от суток, так и от меня.
Три-четыре часа в день я учил язык.
Кроме того, редактировал еврейскую газетку.
Кроме того, опять же редактировал еврейский и окололитературный сайты.
Кроме того, подрабатывал, пиша для других, общедоступных, так сказать, изданий.
Кроме того, умудрялся писать что-то такое для себя. Правда, мало. Совсем мало. Но всё-таки умудрялся.
Ну, и кроме всего этого прочего, я же ещё бегал по всяким конторам. От ОВИРа и военкомата до таможни и ветслужбы.
Тем не менее, у меня хватало времени для переживаний по поводу того, что я, бедный-несчастный, совсем теперь один, без Эли. И сколько буду без неё — тогда, в конце мая, — никто не знал. Сведущие люди говорили, что земля обетованная Гессен присылает вызов через четыре месяца. Я написал в анкете, что страстно желаю в Гессен. Но никто не обязан был учитывать мои желания. То есть их могли учесть, могли не обратить на них никакого внимания. А мне нужно было уехать как можно скорее. Теперь я хотел и морально готов был ехать. Эля меня морально подготовила. Она уехала, когда до рождения нашего с нею сына оставалось чуть больше полугода. И я всё время думал: «Жаль, родители не узнают о внуке. Они хотели, чтоб он у них был. Как у всех нормальных стариков». Но деды мои внуков не дождались, родители не дождались и я, скорее всего, не дождусь.
Может быть, моему малолюдному пересыхающему роду так за что-нибудь определено — вяло тянуться, продолжаясь, но чтоб предки об этом не знали?
А о моём отъезде — если не считать художника Колючего — очень долго знал всего один человек. Эмма Неродченко. Это к ней я ходил третьего января, когда мама упала в ванной. Не сказать ей — я не мог. Во-первых, трудовая книжка и печать хранились у неё, а для того, чтобы подать документы на выезд, и то, и другое нужно было иметь в своём распоряжении. Во-вторых, мы много лет делали с ней вышеупомянутую еврейскую газетку, были в очень хороших отношениях, и от неё я мог себе позволить ничего не скрывать. И не скрывал. Она же никому ничего не говорила, пока я сам не сказал. В самый последний момент.
Когда работаешь в еврейской газетке, о том, что ты едешь жить в Германию, лучше не распространяться до последнего. Это в еврейских кругах не только не приветствуется, но и сурово осуждается. Что, в общем, объяснимо. Забыть шесть миллионов жизней — трудно. Тут, как говорится, двух мнений быть не может. Но я видел бывших узников гетто и женщину, два года своего детства прожившую в погребе, и они говорили: «Забыть нельзя. Как это можно забыть? Но перекладывать вину на нынешних немцев тоже нельзя, поскольку они так же ни в чём не виноваты, как не были виноваты те шесть миллионов». Не знаю, почему они это понимали, а евреи-профессионалы — нет. Я вообще заметил, что люди, сделавшие из своей национальности профессию, — ни черта в жизни не понимают и понимать не хотят. Зато они многое и многих не любят. Профессиональные русские профессионально не любят евреев, украинцев и много кого ещё, профессиональные украинцы так же профессионально не любят русских и, само собой, евреев, а профессиональные евреи профессионально не в восторге от русских и украинцев, плюс к тому они терпеть не могут уезжающих «в страну, в которой мог появиться Гитлер». Как будто жить там, где могли появиться Ленин, Сталин и прочая сволочь мирового масштаба, лучше.
А тут, как специально, незадолго до меня на родину Шиллера и Шумахера с еврейского идеологического фронта дезертировали три проверенных бойца. Один — лектор по Холокосту. Он выступал на эту тему перед общественностью и в прессе. Другая заведовала возрождением и небывалым подъёмом еврейского самосознания на всём востоке страны. Третья несла еврейскую культуру в массы, устраивая на улицах и площадях ежегодные фестивали с песнями и танцами. Назывались эти самодеятельные фестивали неожиданно: «Еврейская мысль сквозь века». И всех, кто работал евреями, особенно высокопоставленными, эти беглецы раздражали. Так что я, от греха подальше — ну, чтоб не попёрли с работы раньше, чем мне это понадобится, — свой отъезд не афишировал. А уж когда мне повезло временно продаться Шефу, я и вовсе затаился.
Только с сыном поговорил. Встретились с ним у того же фонтана, зашли в уличное кафе, купили много пирожных и сока. Санька, несмотря на всю свою взрослость и сто девяносто сантиметров, больше всего на свете любит сладкое. Он любит его даже больше своего компьютера. Под сок я ему всё и выдал. Я сказал:
— Ты понимаешь, что я остался совсем один? У тебя своя жизнь, у Натки и у мамы своя. Правда, у меня есть Эля. Но она — уехала.
Санька с Элей был давно знаком. Я хотел, чтобы они были знакомы, и познакомил их. Он отнёсся к её существованию спокойно. И он сказал:
— Я понимаю.
— Это не всё, она беременна, — сказал я.
— Круто, — сказал Санька.
Ещё я спросил у него, не пойдёт ли он жить в квартиру моих родителей, которая всё равно ему завещана и принадлежит. И он сказал:
— Пойду. Конечно, пойду.
А в остальном, время шло однообразно, без рывков и торможений. Deutsch и работа до тошноты, работа и до тошноты Deutsch. Эля писала сообщения. Я отвечал. Спасибо, Стеклов подарил мне на пятидесятилетие мобилку. Сказал:
— Чтобы ты всегда был на связи. А то искать тебя — надоело.
Я считал, что мобилка нужна школьникам, бандитам, бизнесменам и прочим руководителям, а мне она не нужна. Мне от домашнего телефона не всегда скрыться удавалось. Теперь я был благодарен Стеклову. SMS — это та же телеграмма. Посылая две-три телеграммы в день и получая на них ответы, чувствуешь, что связь с адресатом не прерывается. В общем, мобилка, она иногда сближает. И делает мир ещё теснее. Хотя лучше — и она не делает.
Письма Эля тоже писала. Но редко. Письма шли недели по три, и вся информация в них, благодаря тем же SMS, успевала устареть. Правда, она прислала мне «фотографию» будущего сына. Ей сделали УЗИ, и она вложила снимок в конверт.
— Копия ты в юности, — написал я в ответ и ошибся.
Когда работа и Deutsch совсем уж доставали, мне звонил художник Колючий. Так всегда совпадало. Я выезжал в центр, и мы встречались. У кого-нибудь в мастерской. Или в литмузее. Или у того же фонтана. Мы брали дешёвого винца в ближайшем гастрономе и разговаривали. То есть разговаривал больше Колючий. Я больше слушал. Отдыхая. Я люблю разговаривать с Колючим. Потому что Колючему не нужно возражать. Я с ним практически во всём и почти всегда согласен. Когда я говорю с другими, я только и делаю, что возражаю. Или не участвую в разговоре, так как постоянно, без передышки, возражать — утомительно.
А когда выпивать и разговаривать не хотелось, мы шатались по городу пешком. Я никогда не жил в таком месте, чтобы можно было выйти из дому и пешком погулять. Мне всегда для этого акта нужно было сначала куда-нибудь ехать. А там, где жил я, там можно было только посидеть. Если скамейки пустовали и если они вообще были, эти скамейки, если их не разнесли в буйном веселье дети и юноши нашего образцово-показательного микрорайона.
По воскресеньям приезжали Штангист и Аспирант. Штангист ложился на диван и читал то, что я написал. В некоторых местах он по своему обыкновению хохотал, иногда покашливал и сморкался.
Аспирант говорил:
— Зачем ты себя насилуешь? Чтение — это же не свойственная тебе функция организма.
— А мне нравится, — говорил Штангист. — Даже больше, чем газета «Спид-инфо».
Аспирант принимал у меня документы, выдавал новые, записывал файл на диск и в ноутбук. После этого Штангист протискивался к компьютеру и просил:
— Дай, я нажму. Дай, я.
Аспирант улыбался. Пропускал Штангиста к клавиатуре. Тот прицеливался, жал толстыми пальцами «Shift-Delete» и страшно веселился, когда файл исчезал.
Сразу скажу — несмотря на таких работодателей, я всё успел сделать к сроку. Успел, несмотря даже на то, что устроил себе четыре выходных дня. Тридцатого ноября я сдал им последнюю главу эпопеи. Первый её том состоял из двух частей и назывался «Путь наверх», второй — тоже двухчастный — «Жизнь наверху». Название книге дал я — для смеху, — но оно прошло на ура!
Вручая мне очередные пятьсот баксов за ноябрь, Аспирант сказал:
— Давно хочу сказать. Название Шефу понравилось особо, и он просил вам это передать.
После такой высокой оценки самого Шефа я уже не мог пойти на попятную и изменить название.
Теперь мне осталось только ждать. И ждать мне осталось недолго. Рано утром шестого декабря я уезжал. А перед отъездом ты попадаешь в такой период нежизни, что ли. Ты уже не живёшь здесь и ещё не живёшь там. Тебя уже ничего не связывает с этой жизнью и ещё ничего не связывает с той. Ты — в ожидании. Когда эта жизнь уйдёт, а та, иная, настанет.
«Ну, кинут, так кинут, — думал я, ожидая. — Как бы там ни было, а три тысячи я положил на карточку, и Эля их уже сняла. Три тысячи — это ведь огромные деньги».
Но волновался я зря. В тот же день Шеф мне позвонил. Вернее, он позвонил уже завтра, в час ночи. Похоже, это излюбленное время шефов всех времён и их приближённых.
— Александр Семёнович? — сказал он.
— Да, это я, — сказал я.
— Читаю свою книгу — он сделал многозначительную паузу, — и плАчу! С вами уже расплатились?
— Пока нет, — сказал я.
— Сейчас расплатятся. И если у вас когда-нибудь возникнут какие-либо проблемы — обращайтесь. Помогу, чем смогу.
Хотел я тут же попросить у него телефончик, да раздумал. За ненадобностью.
Через десять минут в мою дверь кто-то застучал. Не то кулаками, не то ботинками.
— Открой, пала, это Штангист.
Я открыл.
Штангист, как обычно, прошёл в спальню, сел на мою постель штанами, вынул из кармана пачку зелёных денег и стал от неё отсчитывать. Отсчитал пятнадцать бумажек, остальное вернул в карман.
— Пересчитай.
Я пересчитал.
— Спасибо.
— Вам спасибо, пала, — сказал Штангист и: — Ну, теперь-то, — сказал, — выпьем?
— Теперь давайте, — сказал я. — Теперь можно. А чего это вы со мной на «вы»?
И тут Штангист сказал:
— Хорошо пишешь, пала. Уважаю.
И ещё он сказал:
— Меня Петей зовут. Петром.
Напились мы с ним в эту ночь — как свиньи! Утром я полез в карман за сигаретой и обнаружил там телефон.
Я позвонил Штангисту. Он сказал:
— Ну напились мы с тобой — как свиньи, я ничего не помню!
— Зато будет, что вспомнить в старости, — сказал я и сказал: — Вы забыли забрать у меня телефон.
— Да оставь ты его себе, — сказал Штангист. — У нас этих телефонов — как грязи.
Глава 11
Четыре выходных дня
Отъезд ещё только где-то там маячил, работа над юностью Шефа была в полном разгаре, а мне уже хотелось со всеми прощаться. Меня прямо зуд прощальный охватил и терзал. Но в городе ни с кем прощаться было нельзя. Да особенно и не с кем мне было в городе прощаться. А если прощаться с кем попало, через неделю о твоём отъезде будут знать все кому не лень. А я же держал это в страшной тайне. Слишком мне хотелось получить заработанное. И в газетке доработать тоже хотелось. Опять же из-за денег. Пропади они пропадом.
И я решил, что нужно съездить в Москву. Всё равно я собирался туда перед отъездом. Не мог же я уехать, не попрощавшись с друзьями. Все главные, так сказать, друзья — ну, кроме Колючего и ещё буквально двух человек — у меня в Москве. Уже больше двадцати лет я тут, а они — там. Может, потому столько лет мы и ходим в друзьях, что видимся не часто. И не из-за чего нам ссориться, и не успеваем. А может, и другая тому причина.
Я собрался выехать в воскресенье, после сдачи очередных глав тетралогии, а вернуться в четверг. И за три дня навалять то, что должен был писать неделю. С газеткой всё тоже складывалось. Поскольку в понедельник номер уходил в типографию, и сама собой образовывалась некоторая пауза, регулярный запланированный передых. Что касается сайтов, то их в качестве веб-мастера вёл Санька и его познаний в русском языке вполне хватало, чтобы вместо меня отредактировать срочные материалы. А несрочные — четыре дня полежат, не прокиснут.
В субботу позвонила Эля:
— Ты там не очень, — сказала, — прощайся. Будешь приезжать. Все приезжают и ты будешь.
Я обещал ей прощаться не очень.
Москва встретила меня с распростёртыми объятиями, но излишне официально. Как только я вышел из вагона, ко мне подошли два ярких представителя государственной власти. В смысле, пара вокзальных ментов. Знаете, бывают вокзальные проститутки, а бывают вокзальные менты. Так вторые гораздо хуже.
— Ваши документы, — сказал один мент.
Я дал ему украинский загранпаспорт с трезубцем на обложке. Он долго его изучал сам, затем показал напарнику. Сказал: «Ты смотри, хохлы дают — и загранпаспорта у них есть, ну прямо как настоящие».
— Ваша регистрация? — спросил он уже у меня.
— Я же только из вагона вышел.
— Ваш билет?
— В паспорте.
Он нашёл билет и довольно долго его читал. Закрыл паспорт:
— Имя!
— Моё?
— Ну не моё же.
— Александр.
— Отчество!
— Семёнович.
Мент подумал, о чём бы таком ещё спросить, чтобы я раскололся. Ничего путного не придумал и со словами «ну ладно» паспорт мне вернул.
Весь первый московский день я занимался тем, что собирал гонорары. Скопившиеся за полгода моего здесь отсутствия. И со сберкнижки тоже снял я почти все деньги. Зачем мне здесь деньги на книжке, если я не знаю, когда попаду сюда в следующий раз?
После сбора урожая я сказал Игорю:
— Где бы нам посидеть? Чтобы и хорошо, и по карману. В смысле, по моему карману.
Игорь сказал:
— Если ты не против, можем посидеть у меня.
Я был не против. Договорились на завтра. Завтра всех вроде устраивало. И я начал готовить отвальную. Наделал каких-то бестолковых покупок. Каких-то колбас-ветчин-маслин-огурцов. Купил водки и грузинского вина, которое, как мне потом объяснили, было не настоящим, но всё равно грузинским и удобоваримым. И Алла его всё-таки пила. Она среди нас была единственная дама, и вино предназначалось ей.
Вечером Игорь сказал:
— Слушай, Андрей в Москве. Ты хочешь, чтобы он тоже пришёл?
Я сказал:
— Как я могу не хотеть? Тем более он старый опытный «немец». Может, чего посоветует.
Все пришли с водкой. Хотя я просил. Я всех убедительно просил. Но мою просьбу проигнорировали. И выпить всё это на фоне сымпровизированной мною закуски было немыслимо. Но мы особенно и не стремились. Мы отбраковали ту водку, что попроще (на потом), и начали с литровой бутылки «Русского стандарта», которую принёс Саша.
Вадим водку очень хвалил. Игорь пил её привычно, как любую другую. Генка и Лёша говорили, что надо её побыстрее закончить и приступить к той, что на берёзовых почках. А Саша с Андреем её не пили. Они с некоторых пор совсем не пили спиртного, абсолютно, ни капли не пили. И к этому невозможно было привыкнуть.
Разговор завязался сначала интеллектуального свойства и почему-то о Мицкевиче. Я говорил, что он за всю жизнь писал всего-то года четыре. А Вадим делал в своём уме расчёты и возражал, что за пятнадцать он ручается. Я не слишком спорил. Вадим лучше знает про Мицкевича и прочих мировых классиков. Вадиму в таких делах нужно верить.
На половине бутылки зашёл Яша. И принёс пачку журналов «Магазин».
— Вот, забрал из типографии.
— Последний номер, — сказал Игорь. — Закрываемся.
Он распечатал пачку.
— Нате, — сказал он мне и Андрею. — Вы тут тоже есть.
Я открыл журнал. Там было написано: «Всем спасибо. Все свободны».
— Сюрприз, — сказал я.
— Да уж, — сказал Яша.
И все начали говорить «жалко, журнал был хороший». А Игорь говорил:
— Поднадоел он мне за столько лет, нет драйва. Да и денег фактически нет.
Мы выпили за упокой «Магазина» и за то, чтобы мне там, среди гуннов и тевтонов, было хорошо.
— Ну хоть чтобы лучше, чем «Магазину», — сказал Генка.
А Игорь сказал:
— Как будет по-немецки хенде хох?
— Смешно, — сказал я.
В какой-то момент Игорю позвонили — я думаю, «Стандарт» к тому времени уже кончился. Он объяснил в трубку, как заехать во двор. Потом сказал нам «я скоро» и ушёл. И общая беседа понемногу распалась на несколько, так сказать, частных.
Андрей говорил со мной о жизни в Германии, о том, к чему надо быть готовым в первые дни, чтобы стресс был не таким сильным.
— Но вообще, — говорил он мне, — эмигрантский стресс проходит. Лет через восемь.
— Ты меня обрадовал, — говорил я ему, — я думал, он не проходит никогда.
— Просто я не хотел тебя запугивать, — говорил Андрей.
Говорили мы по отдельности, но выпивали всё ещё вместе. И всё ещё за меня и за мою тамошнюю новую жизнь. Я после каждой рюмки клал Лёше на тарелку корнишон или маслину. Он каждый раз говорил мне:
— Большое спасибо.
Саша отвечал Алле на какой-то её вопрос. На какой — я не слышал. Но что-то по поводу романа. Он уже знал, что написал хороший роман. И я это знал — он присылал мне роман по e-mail, и я читал его прямо с экрана. А остальные пока не читали. И не могли поддержать предметный разговор. Возможно, не хотели говорить о том, чего не знали, а возможно, не верили, что роман по-настоящему хороший. В это же всегда бывает поверить трудно — в то, что не просто хороший, а по-настоящему хороший. Правда, удивлялись все: «Тридцать печатных листов? За год?! Тут не каждый год прочитываешь столько, а написать…»
Я отвлёкся от того, что говорил мне Генка, и сказал:
— Выпьем, чтоб роман хорошо прошёл.
Все услышали меня и сказали:
— Выпьем.
И все выпили. Кроме Саши и Андрея. Потому что Саша и Андрей не пьют спиртного. Не от хорошей жизни не пьют, но это неважно — от чего.
А у Генки дела шли не ахти как. Газета, где он работал последние годы, приказала долго жить, не заплатив своим сотрудникам довольно много денег. Месяца через два на том же самом месте как-то сама собой образовалась другая газета. Но Генка туда уже не пошёл.
— Люди там остались те же самые, — говорил он. — От перемены названия газеты люди не меняются.
Конечно, он считал, что без работы не останется. А вышло так, что остался. И никто ему не помог. Генка сначала обиделся на всех, потом решил, что никто ему ничего и не должен. Сидел дома, в своём не очень Тёплом стане, в Москву выезжал редко. Пытался делать какие-то халтуры. Иногда это ему удавалось, иногда не удавалось.
Вернулся Игорь.
— Вот, — сказал он. — Это тебе. — И протянул мне толстый красный том.
Я посмотрел название. «Афористика и карикатура».
— Что это?
— Антология, — сказал Игорь. — Тут есть твои фразы.
Как выяснилось, сегодня утром его попросили выступить на презентации этой антологии. Он говорил, что сегодня никак не может, но его очень просили. Поэтому Игорь смотался туда, быстренько выступил и быстренько вернулся. И притащил мне экземпляр антологии.
— Опять сюрприз, — сказал я.
И мы выпили за этот сюрприз тоже.
Постепенно я начал выпадать из беседы, которая опять становилась общей. Наверное, я уже много выпил. И невольно думал о своём.
«Ну что изменит мой отъезд? — думал я. — Сейчас я живу за границей и потом буду жить за границей. Однако же та заграница всем, и мне в том числе, кажется почему-то совсем другой заграницей. Наверно, потому, что на Украине я всё-таки дома, в своей, так сказать, тарелке, а там буду в чужой. И всем там буду чужим. Но, возможно, это и лучше, чем быть получужим, как в нынешнем моём месте жительства. Это хотя бы определённое положение среди окружающих тебя людей: всем чужой — ясно и понятно. И никак иначе быть не может просто по условию изначально.
Вообще, а что человека удерживает в стране, где у него всё не то чтобы плохо, а никак? Некое равновесие жизни удерживает. Как бы там ни было, а она устоялась, идёт каким-то своим знакомым чередом. И к тому, как она идёт, ты уже привык, и с этим ходом смирился, и к нему приспособился. То есть удерживает то, что других людей влечёт: неизвестность".
Вечер незаметно стал ночью. Под конец все вели себя уже так, как вели себя всегда, когда собирались по поводу моего очередного приезда в бывшую столицу нашей бывшей родины. И то, что я скоро уезжаю, было всем привычно. А куда уезжаю — это уже детали второстепенные.
От Игоря мы ехали с Андреем. Я ехал в Выхино, а он в Кузьминки. В метро Андрей продолжил курс молодого эмигранта. Рассказал много такого, чего сам я не узнал бы и за год. Старался не упустить чего-нибудь важного и посоветовать что-то дельное. А когда поезд в Кузьминках стал тормозить, он наклонился и сказал:
— Но ты запомни главное: жить там — нельзя.
Сказал и вышел.
И двери за ним сомкнулись.
Глава 12
Прививка от ностальгии
Можно подумать, что у нас жить — можно.
В предотъездных нервотрёпке и беготне, я часто вспоминал последние слова Андрея, те, что он сказал в метро. Вспоминал и жалел, что ничего ему не ответил. Просто не успел придумать, что бы ему ответить. Он же моментально поднялся и вышел из вагона. Но если бы я успел придумать или если бы отвечал ему не тогда, а сейчас, я бы сказал именно это: «Можно подумать, что у нас жить — можно». И объяснил бы, что я имею в виду. Я бы ему сказал: «Понимаешь, в чём дело, люди друг друга не любят нигде, но на западе не любят пассивно, а у нас — активно. Иными словами, там люди не испытывают любви к себе подобным, здесь испытывают нелюбовь к ним. И если от любви до ненависти всего один шаг, то от нелюбви туда же существенно меньше».
А к уезжающим у нас испытывают особую нелюбовь. Суть её, этой особой нелюбви, случайно и по-военному кратко выразила строгая военкоматовская тётка. Ей я сдавал военный билет и ходил к ней трижды, так как она сначала не расписалась, а потом не поставила печать на справке, подтверждающей, что билет я своей стране вернул в целости и сохранности. Зачем моей стране билет запасника в отставке — знает только она сама. А больше никто этого не знает. Наверно, чтобы я не смог доказать там, на западе, что двадцать восемь лет кряду был командиром взвода средних танков в запасе. Хотя зачем бы я стал там это доказывать? И кому? И какой из меня командир? Я за эти двадцать восемь лет не то что танка, я ни одного живого танкиста не видел.
И сдал я, значит, свой билет, получил справку (без подписи и печати), и строгая тётка положила на стойку, отделяющую меня от неё, гроссбух. Чтобы я в нём расписался.
Стойка была для меня высока, свет в кабинете не горел, а на улице из чёрных туч лил дождь. Я становился на цыпочки, щурился, чтобы разглядеть в полутьме, куда поставить свою подпись. И пытался шутить:
— Мало того, что коротышка, так ещё и слепой.
На что строгая тётка ответила без шуток:
— Зато будете жить в Германии.
И за одно за это — что ты будешь, а они вряд ли — тебя не переваривают. И каждый, кто только имеет возможность, делает тебе козью морду, в смысле, прививку от будущей ностальгии. Тебя же гоняют по разным организациям, а в разных организациях сидят разные люди, и цель у этих людей одна — содрать с тебя как можно больше шкур.
И я ходил, и стоял в очереди, чтоб сначала заказать, а через месяц получить бумагу о том, что я не был (или был) судим. Меня выпустили бы за рубежи в любом случае, но бумагу надо было иметь и за неё надо было платить.
В таможенном управлении тоже надо было платить. Чтобы оно, таможенное управление, запломбировало компьютер. По их замыслу они неделю должны были его проверять, чтоб я не вывез в нём никакой ценной для моей страны информации. Каким дебилом нужно быть, чтобы вывозить информацию таким способом — об этом они не задумывались. Но дело не в этом. Дело в том, что никто, ни один нормальный человек, не оставит этим жуликам свой компьютер даже на пять минут, не только на неделю. Поэтому я запихнул пятьдесят гривен в самое интимное место первому попавшемуся клерку, чем сделал этого прыщавого парня бесконечно счастливым. Наверное, он рассчитывал на двадцатку.
Платил я и за то, чтобы печать в паспорте поставили мне не через три недели, а сегодня. Печать влетела уже в тридцатник. И уже не гривен, а долларов. Зато я платил в кассу. Как следовало из бумажки, выданной мне госпожой начальницей, я добровольно оказал ОВИРу спонсорскую помощь в форме порошка для ксерокса стоимостью сто шестьдесят пять гривен семьдесят копеек. В той же бумажке ОВИР сердечно меня благодарил за гуманный поступок.
А с самим паспортом у меня и вовсе получилось… Или не получилось. Так точнее.
В тот день мне глухо не везло — куда бы я ни приходил, нигде не было бланков. Сначала их не было в союзе журналистов. Я хотел поиметь с этого профсоюза сущий пустяк. Никогда ничего не хотел, а тут, значит, захотел. Игорь присоветовал мне получить международное журналистское удостоверение. «По нему все музеи в Европе — бесплатно, — сказал он. — А музеи там — буквально на каждом шагу».
— Это стоит двадцать пять долларов, — сказали мне в союзе.
— Хорошо, — сказал я. — У меня есть.
— Но сейчас нет бланков.
— А когда будут?
— Неизвестно. В эту международную организацию надо взносы платить, а Украина не платит. Вот они и не дают нам бланков.
— А почему Украина не платит? — задал я крайне бестактный вопрос.
— Вы что, не знаете, в стране нет лишней валюты, — объяснили мне.
— Почему лишней? С нас же берут по двадцать пять долларов. Вот их и платить.
— Ну, если бы всё было так просто…
Из союза журналистов я переместился в ОВИР. Где тоже было всё не просто — по старой советской традиции. В ОВИРе не было бланков загранпаспортов. И когда они будут, тоже никто не знал. Все знали, что их нет. Нет даже в сейфе у полковника. Бедный полковник. Представляю, как скучно ему служилось родине без бланков.
Я тут же, далеко от ОВИРа не отходя, вызвонил одну даму, близкую к ментовским кругам.
— Узнай, плиз, — попросил я её, — сколько надо заплатить, чтоб у полковника или у паспортистки в сейфе появились бланки.
Дама тут же узнала. Оказалось, всего полторы сотни долларов.
— Не дам! — сказал я и решил ехать со своим паспортом, срок действия которого истекал через полгода.
И я вот думаю, а что, если бы у меня не было денег всем им платить? И что было бы, если бы в год, когда заболела мама, я параллельно с еврейской газеткой не редакторствовал в глянцевом журнале, не подрабатывал в политической программе у Стеклова провокатором и не получал вполне прилично? Прилично — по нашим, конечно, меркам и понятиям, а по нормальным, общечеловеческим — какие это были деньги! Но спасибо и за них. Спасибо, что на лекарства, на врачей, на еду и на такси — отвезти маму на Космическую и привезти её обратно — у меня было всегда.
Было у меня и на похороны. И на то, чтобы поставить небольшой камень на могиле родителей…
Но дело даже не в деньгах, совсем не в деньгах. А в том — можно или нельзя жить там, где все всех по долгу службы и по велению души активно не любят? Не любят, ну хоть ты тресни!
Глава 13
Опоздание на два часа
Провожал меня Санька. И больше никто не провожал.
Накануне пришла бывшая жена, что-то приготовила. Санька с Наткой тоже пришли. Сели за стол. Всё пристойно, как будто всё по-прежнему, всё как раньше. Мне казалось, что они о моём отъезде сожалеют. Когда был под рукой, вроде и не совсем понятно, зачем был, а когда выяснилось, что теперь не будет, вроде и жалко стало. Но теперь жалеть уже было бессмысленно. Теперь нужно было прощаться и желать. И они прощались и желали мне всего: чтобы там — лучше, чем здесь, и чтобы ребёнок был здоров, и тому подобное.
Позвонил Колючий.
— Не грусти, — сказал он. — Там преступности нет, а медицина есть. Там тебя обследуют, новые зубы вставят и всё будет, как в сказке про немцев.
— Я не грущу, — сказал я.
— Твои у тебя?
— Мои у меня.
— Ну, давай.
— Даю.
Часов в десять жена с дочкой поцеловались со мной и ушли, а сын остался. Он будет теперь здесь жить. Сначала здесь жил я с родителями, потом родители без меня, потом я без родителей, а теперь вот пришла его очередь. И слава Богу, что его, и что в этой махонькой, обшарпанной квартирке, где жили и умирали мой отец и моя мать, не будут толочься чужие люди.
Сумок у меня получилось три. Три клетчатые сумки из клеёны. Две огромные и одна поменьше. Я бы взял ещё, но и эти весили сто двадцать кило. А бесплатно провезти разрешалось только пятьдесят. Потом — евро за килограмм. С деньгами же было как обычно. А после того, как я все остатки и заработки положил на карточку, денег стало просто в обрез. И я сто раз отбирал самые нужные мне книги. Отбирал, складывал их в сумки, вынимал. Снова отбирал — уже из отобранных. И так далее. В итоге вышло, что почти ничего я не взял. Только самые-самые, те, которых меня лишать нельзя. Без которых могу я запить, а то и чего похуже. Ну и компьютер тоже я упаковал в одну из сумок. Старую свою сотку. Служившую верой и правдой больше шести лет. Говорил мне Санька: «Не бери её, купи новую машину». Но я взял. И монитор взял четырнадцатидюймовый. К которому и сам я, и глаза мои давно привыкли. Вот книги и монитор с компьютером — из этого складывался вес моих неподъёмных сумок. Остальные вещи были в явном, абсолютном меньшинстве. Это были вещи самой первой необходимости, без них, как мне казалось, обойтись невозможно. Но это только казалось. Потому что и без них свободно можно было бы обойтись.
Итак значит, не считая пакета с едой, вёз я три сумки и кошку. Для неё специально и заранее был куплен на птичьем рынке бокс. И она какое-то время его обживала. Иногда спала в нём целыми днями, иногда просто сидела, укрывшись непонятно от чего.
Вначале микроавтобус долго не приезжал. Мы слонялись с Санькой по квартире, не зная, о чём говорить. Мы ждали. Ждали моего отъезда. И нервничали. Я звонил водителям. Они не отвечали. Потом ответили. Сказали, чтоб я не нервничал и что они грузят в разных концах города моих попутчиков. И опять мы ждали. И всё равно нервничали. Потом они приехали.
Я стал с ними расплачиваться. Неожиданно сумма оказалась больше, чем договаривались. Но деваться было уже некуда. Две сумки снесли вниз водители. Одну — мы с Санькой. Водители стали заталкивать их в багажник, а я поднялся за кошкой. Посадил её в бокс и понёс. Кошка сразу учуяла неладное и заметалась. Я ткнулся Саньке в грудь — выше мне было не достать — и вошёл в автобус. Поднял глаза. В поисках, куда бы сесть.
Первый ряд кресел занимает семейство из трёх человек плюс собака. Точнее, пудель. Мать-крестьянка необъятных размеров, отец — бессловесный старик с трагической лысиной, дочь — уродливая, но беременная. И хорошо беременная. Она видит кошку и говорит пуделю:
— Пупсик, тебе завтрак принесли.
Я говорю:
— Если не хотите, чтобы он остался слепым, держите его крепче.
— Пупсик, завтрак отменяется, — говорит беременная дочь и прижимает своего пуделя к животу матери. Пудель печально скулит. Я сажусь сзади семейства. И мы трогаемся. Я смотрю в окно. Санька стоит. Его длинные руки висят, оттягивая плечи. Он тоже смотрит в моё окно. Мы оба в него смотрим. Автобус медленно едет по разбитой дороге вдоль дома. Я поворачиваю голову. Всё поворачиваю и поворачиваю. До тех пор, пока в шее что-то начинает хрустеть. Дальше ничего не видно. И Саньки не видно тоже.
Кошка продолжает метаться в боксе, бьётся боками о стенки, упирается грудью в дверцу, просовывает наружу лапы. Я выпускаю её, и она впивается мне в плечо когтями. Впивается, прижимается ко мне животом и замирает — стоя, как человек.
Семейство, которое с пуделем, начинает есть сразу за поворотом. Кур, бананы, рыбу, яблоки, конфеты, булки. Всё подряд. Мать угрожает достать селёдку, но не достаёт. Отец ест, кивая головой. Беременная дочь с собакой тоже едят. Потом дочь останавливает автобус и ходит на обочину блевать. Блюёт, возвращается и опять ест.
— Когда я ем, — говорит она, — меня укачивает меньше.
Справа, у двери, сидит пожилой еврей в бейсболке, его жена — на заднем сиденье. Они едят, но меньше. Потому что жена в промежутках спит, а муж привстаёт с кресла и следит через головы семейства и водителей за дорогой. Поднося к глазам театральный бинокль. Иногда он оборачивается, будит жену и говорит что-то вроде: «Мухосрановку проехали». «Где это?», — говорит сонная жена. «Не знаю», — говорит муж. После диалога они что-нибудь съедают, и жена засыпает. Муж опять привстаёт и смотрит в бинокль. Чтобы через какие-нибудь полчаса снова разбудить жену и объявить: «Пятихатовку проехали». И опять жена спросит «где это», и опять муж скажет «не знаю», и опять они достанут что-нибудь из сумки и станут жевать.
При первом же резком торможении я почувствовал, что моё кресло не привинчено. Просто стоит на полу и всё. Какое-то время я балансировал на виражах, чтобы не завалиться вместе с креслом, потом подумал — чего ради я мучаюсь?
— У меня кресло не привинчено, — сказал я.
— Сейчас привинтим, — сказали водители, и автобус съехал с асфальта.
Один водитель лёг на землю, другой стал пропихивать в отверстия кресла и пола болты. А тот, что снизу, навинчивал на них гайки.
Тут я сообразил, что кресло моё приставное, лишнее. Эти ребята говорили, что в микроавтобусе семь мест. С моим креслом их было восемь. Теперь становилось ясно, почему они не дали мне купить билет в кассе — хотели получить всю его стоимость и не делиться с хозяевами своей фирмы.
Последние пассажиры садились в Киеве. Часа полтора мы ехали по городу, из конца в конец, водители постоянно звонили, объясняли, где находятся, и спрашивали, куда ехать дальше. Пока не въехали в какой-то двор. Двор ничем не отличался от моего. Такие же пяти- и девятиэтажки, такие же голые тополя, такая же разбитая дорога. Здесь к нам подсели двое — мать и сын. С собой они везли много больших клетчатых сумок. Часть из них водители запихнули под самую крышу в багажник, уже набитый битком точно такими же сумками, а из части соорудили баррикаду между мною и евреем с биноклем. Мы с кошкой оказались прижатыми к окну. А чтобы выйти из автобуса, я должен был выбраться из низкого кресла, высоко задрать ногу, перебросить её через сумки, затем перетащить через них вторую ногу. При этом держа на руках кошку. Так что выходил я редко. В основном на таможнях. Правда, на украинской таможне я тоже не выходил. И никто не выходил.
Перед украинской таможней водители вдруг заявили, что все должны заплатить страховку. Те, кому до шестидесяти лет — по двадцать гривен, те, кому за шестьдесят — по сорок.
— Мы, конечно, не имеем права вас заставлять, — говорили водители. — Но лучше заплатить. Легче будет с таможенниками вопросы решать.
Предварительно, ещё дома, для «решения вопросов с таможенниками» они собрали с каждого по двадцать долларов, а с меня взяли тридцать.
— За кошку на таможне надо платить отдельно. Кошка — это повод придраться.
— У меня же все документы на неё есть. Зачем я тогда платил за документы?
Водители не имели понятия, зачем я платил не им, а за документы. И настаивали, чтоб им я заплатил также. Настаивали и, конечно, настояли.
Не знаю, платили они или как-то по-иному «решали вопросы», но на украинской таможне нас никто не досматривал. Только сунула в дверь физиономию какая-то баба. Она сказала: «Хай щастыть», — и мы поехали в Польшу.
Поляки заставили всех выйти на мороз. Осмотрели салон, открыли наугад две сумки. Попросили водителей показать багажник. Я подумал: «Сейчас они услышат мой будильник».
— Что есть это? — сказал один поляк почти по-русски.
Водители прислушались и дёрнули плечами, как братья-близнецы.
— Ё-ё, — прошептал один. — Бомба.
— Это мой будильник, — сказал я. — Угличского часового завода. Очень надёжный.
— Где? — спросил поляк.
Я поводил взглядом по совершенно одинаковым сумкам и не без сомнений указал на свою.
— Вы идиот? — сказал поляк.
— Нет, — сказал я. Потом вспомнил Аспиранта и глубокомысленно добавил: — А впрочем… Все мы в некотором роде идиоты.
Поляки ушли. Вряд ли они со мной согласились. Мы вообще были им по фигу. Они шмонали спиртовозов и контрабандистов, везущих в Польшу дешёвые сигареты. А с нас, юдише-беженцев, что толку? С нас взятки гладки.
Кошка вела себя идеально и, я бы сказал, стоически. Она не только ни разу за тридцать шесть часов пути не ходила на горшок, но и есть не просила. Несмотря на то, что последний раз я кормил её днём накануне отъезда. Так положено. На голодный желудок кошки легче переносят дорогу. Уже посреди Польши я дал ей йогурт, и она его без аппетита съела.
Есть и мне не хотелось, только пить. И выйти давно было пора. На очередной остановке водители пошли в кафе. Семейство в полном составе отправилось на поиски туалета, пуделя заперли в автобусе, и он стал скулить и лаять. Я выбрался на свободу с кошкой. Кошка дышала тяжело и прижималась ко мне — пряталась от ветра и от изменившейся вдруг действительности. Я размял ноги. Затекли они жутко.
Через пять минут семейство вернулось, и жена еврея с биноклем спросила:
— Есть?
— Пойдёте прямо, — сказала беременная дочь, — там будет помещение и на нём две буквы — «дубль-в» и «с». Наверно, по- нашему это «эм» и «же».
— Это ватер-клозет, — сказал я. — Туалет с водой иными словами.
— Вы знаете немецкий? — спросила жена еврея с биноклем.
— Это не по-немецки, — сказал я. — С чего вы взяли, что в Польше надписи на туалетах по-немецки?
Жена еврея с биноклем осознала свою оплошность и спросила:
— Вы знаете польский?
Мы с кошкой тоже сходили в найденный семейством клозет. То есть кошка не так сходила, как составила мне компанию, доставив некоторые неудобства.
Вернулись сытые водители. Мы заняли свои осточертевшие места. Жена еврея с биноклем порылась в сумке, достала русско-немецкий разговорник, открыла его на первой странице и внимательно начала читать.
Из Польши в Германию проскочили, не заметив, что «пересекли государственную границу». Просто сдали паспорта польке, а отдал их нам немец. И Германия началась. Началась с хвалёного их автобана. По которому и правда ехать было одно удовольствие. Даже в переполненном микроавтобусе. Даже с голодной кошкой на руках. Даже в полную, совершенно непроницаемую неизвестность.
И вот, микроавтобус повернул, и дорога пошла круто вниз. И уткнулась в город. У заправки остановились. Водители включили свет в кабине, вынули карту и стали думать, как лучше доехать до Банхофштрассе. Наконец, придумали, потушили в кабине свет и поехали. На следующей заправке опять остановились. При помощи жестов и карты уточнили, правильно ли едут. Заправщик при помощи того же самого сказал, что правильно. И через минуту микроавтобус остановился у нужного мне дома. Я запихнул кошку в бокс, перелез через баррикаду и, задев боксом еврея с биноклем, вышел. Водители открыли багажник и стали вытаскивать сумки на брусчатку. Я отбирал среди них свои.
— С вас пять евро, — сказали водители. — За то, что мы в очереди на таможне не стояли. Вы видели, какая там была очередь?
В доме на втором этаже я вижу открытое окно. В нём — женский силуэт.
— Эль, это ты? — кричу я, и окно закрывается. Силуэт исчезает. Свет в окне гаснет.
И тут я слышу: «Поздравляю вас». Это говорит какой-то мальчик, и я понимаю, что это Мишка, сын Эли.
— Что, уже? — говорю я.
— Два часа назад.
— Не успел, — говорю я.
— С вас пять евро, — говорят водители. — Вы слышите, пять евро.
Я отворачиваюсь от Мишки и говорю, чтобы он не слышал:
— Пошли на хуй. Вы и так содрали с меня сколько захотели и везли, как селёдку в банке. И не договаривались мы ни о каких пяти евро.
— Это непорядочно с вашей стороны, — говорят водители, чуть не плача. — Мы же в очереди не стояли, а другие стояли.
— Пошли на хуй, — говорю я. И они туда идут. А мы с Мишкой, надрываясь, тащим мои сумки в квартиру.
Я тащу и думаю, что стал отцом в паршивом, забитом вещами и эмигрантами, микроавтобусе.
И радуюсь, что хоть не в тюрьме, не в больнице и, как говорится, — при жизни.
Вместо эпилога и примечания
И самое последнее, что я хотел… По поводу вышеизложенного. Все имена и фамилии выдуманы, после чего изменены на противоположные. Все описанные события и факты самым наглым образом высосаны из пальца. Ничего подобного никогда не было, нет и не будет. Шефа не было и не будет. Аспиранта — не было и не будет. Таможенников, водителей, врачей, пысьмэнныкив, мэрваськи, памятников, ментов, ОВИРа — не было, нет и не будет. И слава за это Богу.
«А что же тогда было? — думаю теперь я. — Акации хоть были?»
Да, акации — были. Акации точно были.
Царство им небесное.
2003−2004
Неметчина
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ДО
Маленькие трагедии. Или не трагедии
Рама
Дождь сначала пошёл, а затем прекратился. Наверно, это были вчерашние его остатки. И на сегодня их в полной мере не хватило. То есть хватило только на утро. Хотя вчера шёл настоящий ливень с настоящим потопом. Может даже, и со всемирным.
Ровно в девять приехали рабочие. Привезли на крыше «Жигулей» раму, оцинкованное железо и прочее добро. Подняли всё на третий этаж и начали устанавливать на балконе.
— Ты только советов нам не давай, — сказал первый рабочий.
— Хорошо, не буду, — сказал я, взял телефон и ушёл на кухню.
За мной сразу пришёл второй рабочий. Пришёл и сказал:
— Ты не обижайся. Я когда-то сдуру университет окончил. Так что сам советы давать умею. А когда другие дают — ненавижу. Потому что на хрена мне их вшивые советы.
— Я не обижаюсь, — сказал я, и рабочий с кухни ушёл, оставив меня наедине с грязной посудой.
Заработала дрель.
— Бьёт током, — сказал первый рабочий и после паузы ругнулся матом.
— Раньше не била, — сказал второй.
— Это от сырости, профессор, — сказал первый.
— Да, — сказал второй, вспомнив, наверно, университетский курс физики.
Рабочие попеременно, теснясь, задвигались в пространстве квартиры. Что-то принося, раскладывая, перемещая. Они сразу затоптали полы в комнате, в коридоре и в кухне. Всё покрыли следами. Правда, не по своей вине. Балкон и улица после дождя были мокрыми и грязными.
Выглянуло откуда-то из-за угла солнце. Отразилось от оцинкованного листа и исчезло. Лист потускнел, и стало темно. Как будто сейчас не утро, а вечер.
Включился холодильник. И стал гудеть. Громко и с натугой, так, словно ехал в гору.
— Надо его разморозить, — подумал я. — Всё равно день пропал и пошёл насмарку.
Я встал с табуретки, открыл холодильник, заглянул в него, выдвинул из-под морозилки судок. Задвинул. Яйца, картошка, хлеб, кетчуп. Ага, вот ещё кусок сыра. В общем, портиться нечему. Повернул колесо выключателя. Холодильник затрясся и смолк. Пусть стоит, нагревается воздухом жилья. Когда стечёт — вытру. А посуду завтра вымою. Или послезавтра.
Дрель продолжала выть. Чтобы закрепить раму, рабочие сверлили бетон и курили папиросы «Беломорканал». Я думал их давно не выпускают, эти одиозные папиросы. Оказывается, выпускают.
— Ничего, что мы курим «Беломор»? — рабочий с университетским образованием пришёл в кухню, и пепел с его папиросы упал на пол.
— Ничего, — сказал я. — Они мне напоминают юность: «Красная стрела», кони Клодта, Дом книги, фабрика Урицкого.
— Теперь она «бывшая фабрика Урицкого». Вот, на пачке написано.
Он протянул мне пачку и наступил на пепел.
Действительно, так и написано — бывшая.
Телефон не звонил. Никому я не был сегодня нужен. Хотя не только сегодня. Но это ладно. Да и не совсем правда. Правда, но не совсем. Элле я всё-таки нужен. Конечно, нужен. Кто же ей нужен, если не я? Никто не нужен. Разве что сын. Но сын есть сын. Родная кровь. Потомок. Надежда.
— Эй, пацан, отойди! — крикнул с балкона первый рабочий. — На тебя что-нибудь упадёт. Молоток, например.
Пацан не отошёл. Он стоял и смотрел вверх. Ему было интересно. Может быть, он никогда раньше не видел, как ставят на балконе раму.
— Федя, уйди!
Это уже крикнула пацану бабушка со стороны мамы. Федя испугался. Бабушка у него была страшная, особенно когда торчала по пояс в окне и орала. И он из-под балкона ушёл на безопасное расстояние, от греха подальше. Рабочий закашлялся. И стал кашлять изо всех своих физических сил, до слёз. Всё-таки курить папиросы «Беломор» опасно для здоровья рабочих.
В холодильнике капнула талая вода. Раз и ещё раз. И закапала в каком-то неустойчивом ритме. Рабочие перестали сверлить и стали бить молотком.
— Мешать не будет? — сказал первый рабочий.
— Давай померяем шурупы, — сказал второй. — А то у меня есть подозрения.
И всё стихло. Видимо, они производили замеры.
Скоро два месяца, как умерла мама.
Надо сходить на кладбище. Я был там не очень давно. На сорок дней. Но теперь собираюсь не столько к родителям — хотя, конечно, и к ним тоже, — сколько по делу. К Коле Антипу, давнему приятелю, в прошлом коллеге. Чтобы заказать у него памятник. Я думаю, один на двоих. Не знаю, понравится ли это Коле, но родителям должно понравиться.
А вот то, что я опять живу один, им понравится вряд ли. Застеклю балкон и заведу кошку. И кошка с балкона не упадёт.
Элла говорит: «Не хочу сейчас затевать развод. Костя закончит школу, куда-нибудь поступит, и я к тебе перееду. А пока будем любовниками».
На это я ей сказал: «Хорошо, будем. Тем более что мы — они и есть».
И она продолжает приходить ко мне, как это у нас повелось издавна, один-два раза в неделю, а иногда живёт дня по три, оставив Костю в нагрузку мужу или отправив принудительно к бабушке. Когда он отдыхает в каком-нибудь молодёжно-оздоровительном лагере, она тоже живёт здесь. Поэтому она говорит: «Не смей без меня заводить кошку. Я хочу принимать в этом активное участие».
Дочь тоже хочет участвовать в судьбе будущей кошки. Видно, они не доверяют мне и моим жизненным принципам. И на это недоверие у них есть основания: я считаю, что кошку нужно взять с помойки. А дочь и Элла так не считают.
Не знаю, что бы я без Эллы делал. Наверное, ничего. Буквально. Потому что ничего бы я делать не мог. Да, без Эллы мне нельзя. Особенно теперь, когда нет мамы. От жены я сбежал ещё за год до маминой смерти. А жить один не умею. Не дано мне такого таланта от Бога. Один я начинаю лихорадочно спать с кем попало, пить всякую гадость, а есть как раз регулярно забываю. И работаю меньше. Потому что, когда живёшь один, работать не для кого и не имеет глубокого смысла. Мне-то самому что нужно? Ничего. У меня всё необходимое есть.
— Ударь снаружи, — сказали на балконе. — Ты что, обалдел? По верхней стойке ударь. Профессор!
— Ударяю.
И раздался удар молотком по дереву.
В холодильнике капало всё чаще. И в конце концов потекло. Солнце не появлялось. Но и дождь тоже не шёл. Элла не звонила. Рабочий опять кашлял, а откашлявшись, плюнул вниз. Через балконную дверь влетела весенняя муха. Она жужжала, как ненормальная оса, весело мотаясь из коридора в кухню и обратно. Потом села на пол. Я метнул тапок и попал. Муху расплющило в кашу. Телефон зазвонил. Я взял трубку.
— Са-ша, — сказала Элла. — Это я.
— А это я, — сказал я.
— Нам вызов пришёл, — сказала Элла.
— Какой вызов? — сказал я.
— В Германию.
— В какую ещё Германию?
Элла обиделась:
— Ты придуриваешься?
На что я промолчал, а она сказала:
— Мы же пять лет назад документы подали, и всё это время — никакого ответа. Ни положительного, ни отрицательного. А тут — как снег среди ясного неба. Такая радость. Тем более жене брата удалили грудь, у папы свищ, а там медицина — бесплатная и на уровне.
Я сказал:
— Германия — это далеко.
— Но ты же к нам приедешь? — сказала Элла. — Приедешь, и мы будем там жить.
— Жить? — сказал я.
— Жить, — сказала Элла.
А, ну да. Конечно, жить. В Германии. Как я сам до этого не додумался?
— Ну? — Элле моё молчание не понравилось. — И почему ты молчишь?
Я молчал, потому что молчал.
— Ты меня любишь?
— Вроде да.
— Тогда скажи что-нибудь.
— А с кошками, — сказал я, — в Германию пускают?
— При чём здесь кошки? — сказала Элла. И сказала: — С кошками в Германию — запрещено.
Для души
Правильно всё-таки говорят наши древние мудрецы. Что любовь зла, и на безрыбье того же козла полюбить можно. Причём «козёл» в данном крылатом выражении — это эпитет. Я, правда, с мудрецами тут в корне и в принципе не согласен и считаю, что любовь как раз не зла, раз даёт шанс даже козлу, но дело не в этом и не во мне, а в том, что мудрецы потому и мудрецы, что всегда правы…
Сколько лет ей все — от подруг и соседок по дому до мамы и матери мужа свекрови — настоятельно рекомендовали завести себе кого-нибудь для души. И одновременно, чтобы не распыляться, для тела. Вот она в конечном счёте и завела. Кому сказать — удивятся и не поверят. Поэта местного и плюс к тому гениального. По крайней мере, он так о себе склонен думать. А все остальные не склонны думать о нём и вообще никак, потому что у всех остальных свои заботы, собственные, и никому до его местной поэзии никакого дела нет, и до него самого — тоже нет, поскольку нет никому дела ни до чего.
Близкие люди и родственники, те, что искренне к ней относились, сразу Алке сказали:
— Нет, Ал, поэт — это пошло. Поэт — это явный перебор и пережим.
И Алка им сразу ответила:
— Я понимаю. А что, — ответила, — делать?
— И где ты только этого поэта откопала, — жалели Алку близкие, — в нашем городе чугуна, стали и коксохимической промышленности?
А Алка говорила:
— Он сам откопался. И при чём тут, — говорила, — место жительства?
И действительно, поэт, он же где б ни жил — всегда имеет тонкую нервную организацию или, проще сказать, бывает психопатом и неврастеником — это в самом лучшем приемлемом случае. Он то пишет ночами верлибры с рифмой, то вешается, то влюбляется без ума в продавщицу, то без ума годами обходится. А вдобавок ко всему этому добру он ещё и с мамой живёт, уйдя от всех своих бывших и будущих семей в никуда на волю. То есть к маме. И мама его спорадической интимной жизнью в душе недовольна. Всем довольна, а жизнью — нет.
В общем, вляпалась Алка, как мокрая курица в суп. Потому что она же не просто с тоски вселенской завела себе этого поэта, из расчёта досуг жизни раскрасить и наполнить хоть чем. Она его от всей души полюбила, дура такая. На старости своих двадцати восьми лет. Ну кто мог от неё, умной, можно сказать, женщины с высшим образованием, ожидать такой глупости несуразной? Никто не мог. И сама она не могла и не ожидала. Потому что была о себе лучшего мнения.
И теперь, значит, жизнь Алки строилась так: с одной стороны, она мужа кормит каждый день по нескольку раз и за ним ухаживает, квартиру убирая, с другой — поэта из петли или от продавщицы вытаскивает и плюс на работу ходит как часы и трудится там, удачно вписавшись в рынок.
Тоски, правда, при этих лишних дополнительных нагрузках в её жизни значительно меньше стало. Но стала ли от этого лучше сама жизнь — тут бабка надвое сказала. То есть стала, но только временами и мгновениями. Справедливости ради надо, конечно, сказать, что поэт этот её припадочный не всегда психует и слова пишет, он иногда, нет-нет, да и трахнет Алку так, что все зубы сведёт. Пускай без особого внимания, между стихами и в мамином за стенкой присутствии, но всё равно хорошо и прекрасно. А с мужем так и вовсе не сравнить. Потому что сравнивать, собственно говоря, не с чем. Муж давно своими супружескими правами пренебрегает и ими не пользуется, считая их обязанностями. Которыми тоже по возможности пренебрегает. По крайней мере, с ней. А с другими — кто его разберёт? Презервативы случайные, когда Алка штаны и рубашки мужнины в стиральной машине вертит, на поверхность всплывают. Самых разных мировых производителей. Но что он с ними делает в её отсутствие и для чего применяет — Алкой не изучено. И не требовать же у мужа пояснений с предъявлением ему прямо в лицо выловленных улик и вещдоков. Унизительно это и неинтеллигентно. И Алка, как женщина глубоко воспитанная, обратно их мужу по карманам раскладывает. После просушки. И хранит на эту тему ледяное, так сказать, молчание ягнят.
Отсюда понятно, почему в конце концов она просто завела себе на стороне человека, мужчину. Вернее, не просто завела, а влюбилась в него, как последняя романтическая идиотка эпохи Возрождения. И то, что он поэтом на поверку оказался, не её вина, а её, может быть, беда. И кризис среднего женского возраста — это само собой, это отдельно.
Да, и вот, значит, влюбилась Алка при живом и здоровом муже, который имел у неё место быть, но пассивно, что ли. Ничего до поры до времени не замечая и будучи уверенным в себе и в ней самозабвенно, поскольку он был хоть и бабник по слухам и уликам, но в душе — очень хороший семьянин, материально, жильём, машиной и дачей обеспеченный. А потом, постепенно, когда про Алку с поэтом полгорода уже знало в деталях и пикантных подробностях, стал он что-то таки замечать и задницей чувствовать. Какие-то в Алке несвойственные перемены. И начал подспудно задумываться, волноваться за своё будущее и стал принимать подсознательные меры для возрождения в семье тесных родственных отношений и телесных контактов. И если бы не уехал сдуру в Египет, меры эти дали бы, наверно, свои ощутимые плоды и побеги. Он же последний раз даже день рождения в тесном Алкином кругу праздновал. При том что обычно делал это в кругу своего, принадлежащего ему с братом, трудового коллектива. Устраивал, иными словами, коллективу народное гулянье — размашистое и за свой личный счёт. И коллектив всегда бывал гуляньем доволен и пел ему хором в знак благодарности попутную песню: «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» и так далее. А Алка во время этого праздничного пения дома сидела или делала что хотела и что считала нужным в быту. Как брошенная вдова. Но что бы она ни делала, прежде всего она злилась, намереваясь и давая себе клятвенное обещание отомстить мужу при первой подвернувшейся возможности. И такая возможность в свой срок ей как нельзя кстати подвернулась. Правда, в виде упомянутого поэта. М-да.
Наверно, она чем-то сильно не угодила Господу Богу нашему, непростительно провинившись. Или не она, а предки её до седьмого колена. А она вынуждена за них расплачиваться и нести на себе груз ответственности и свой крест. А как иначе можно объяснить появление поэта этого дурацкого в её будничной личной жизни? Не говоря уже о дурацком, пусть и по-иному, муже. Которого она, между прочим, вот уже десять лет почти любила. И это была отдельная Алкина драма и трагедия. Она и поэту говорила с первого дня и в постели, и вне её: «Я, — говорила, — десять лет почти люблю своего мужа». Поэт говорил: «Кошмар». И говорил: «А меня?» «И тебя, — говорила Алка и мечтала вслух: — Вот бы, — мечтала, — жить нам втроём, дружной шведской семьёй, чтобы и духовные, и материальные запросы всех её членов всесторонне учитывать и удовлетворять по первому требованию или желанию».
Поэту эта идея не нравилась. Он говорил: «Я, насколько мне известно, не швед. Я лучше», — и в силу своей подлой поэтической натуры, любил, чтоб его любили безраздельно, а не в группе или там в приятной компании.
Мужу такой конгломерат семейной жизни тоже вряд ли пришёлся бы по вкусу. Он мог позволить себе подкармливать какого-нибудь представителя высокого или иного искусства, притом свободно — денег у него на эту блажь и дурь вполне хватало, — но жить с ним одной семьёй, пускай даже шведской, под одной своей крышей, со своей женой десятилетней давности — это было для его понимания слишком сложно и слишком, может быть, современно.
Сколько бы вся эта любовная канитель с интригой длилась, если бы не древний Египет, сказать трудно. А так, предложили мужу Алкиному путёвку горящую по смешной цене и как раз в Египет. Ну, он туда и махнул не глядя. Чтобы пирамиду Хеопса — куда недавно кондиционеры установили — своими глазами увидеть и руками пощупать, в смысле, прикоснуться к вечности. Он давно мечтал к ней прикоснуться, да всё его величества случая не было.
И вот кульминация и развязка: входит Алкин муж с рюкзаком, вернувшись из египетской турпоездки раньше положенного времени. Разочаровался он там, в Египте, поскольку и от египтян ожидал чего-то большего, и от пирамиды Хеопса. А дома у него — жизнь прекрасна, но удивительна! Как в старом полупохабном анекдоте. Жена, любовник и прочие атрибуты с реалиями. Полный комплект и весь джентльменский набор.
Но и он тоже хорош. Прямо с порога показал себя настоящим пошляком, мавром и Отелло — и далеко не с лучшей стороны:
— А-а! — закричал, — Ты? Мне? С этим? — ну, и другие слова вроде «я работаю», «сука», «убью» и тому подобное.
А Алка закричала:
— Да, с этим! — и закричала: — Я тоже работаю! Убивай! Нам плевать.
А поэт тихо сказал «кому это нам?», сказал «вот бля!» и ужаснулся.
И выхватил, значит, муж Алкин из ящика обеденного стола пистолет наградной (им старшину Бойко наградили за мужество в тылу, а он его одним хмурым утром продал) и стал, будто террорист арабский, стрелять по всему в квартире живому. Сначала в поэта пострелял, потом в Алку. Или нет, кажется, сначала в Алку, потом в поэта. Да, именно в таком порядке. Но это неважно и несущественно. В кого сначала, а в кого потом. Важно, что всех он, как в кинобоевике индийском, перестрелял. Включая себя самого. Причём в себя он с первого раза промахнулся, задев только мягкие ткани головы, — и лишь со второй попытки попал.
И хорошо, что у нас в городе врачи-хирурги высокой квалификации и на огнестрельных ранениях давно насобачились и набили руку до автоматизма. Поэтому пострадавших они не задумываясь спасли. Но что теперь, после выписки, эти спасённые врачами персонажи будут делать — это вопрос, требующий ответа или решения. И здесь уже медицина бессильна как никогда.
Зачем только муж Алкин в Египет попёрся? Далась ему эта вечность проклятая! Предостерегал же его умный брат, телевизор регулярно смотрящий — что там опасно для жизни и всякое может случиться, и кончиться эта безобидная на первый взгляд туристическая поездка может плохо. Вот она и кончилась. Слава Богу, милиция по горячим следам не нашла и не раскрыла, кто из какого оружия стрелял, оставив кровавое преступление без наказания. А то ведь и посадить могли свободно всех троих…
Ну, и — в качестве счастливого конца, практически хеппи энда: получили излечённые участники боевых действий на руки долгожданные эпикризы, вышли из больницы на свежий воздух — Алка с мужем имеется в виду, потому что поэт, сволочь, незаслуженно пострадав меньше всех, был отпущен раньше — и стали как-то жить. Поэт, понятно, исчез в неизвестном направлении — наверно, у мамы окопался и пишет поэму «Под пулями». А Алка с мужем — оскорблённые и униженные, и простреленные в трёх местах — остались друг с другом наедине или, лучше сказать, один на один.
Хотел было муж Алку выгнать в три шеи из дому, чего она всем своим лёгким поведением перед Богом и людьми безусловно заслужила, да квартиру он эту просторную на её, Алкино, имя купил — надеясь на семейную жизнь до счастливой старости и до гроба. И теперь в квартире значит этой Алка есть полноправная хозяйка и владелица. Муж же в неё, в супругу свою родную, свободные средства вкладывал без оглядки. Никакой от неё гадости или подвоха не ожидая. Всё равно что в себя…
А оно вон, значит, как обернулось.
Наволочки
В принципе, как по большому, так и по малому счёту, всё у Ирины нормально. Работа, квартира на левом берегу, деньги, немного и не всегда, но есть — одним словом, нормально. Грех жаловаться. Тем более что и некому. Только вот все, кому не лень, Ирину обманывают. А не лень — именно всем. И каждый раз — её обманут, а она всё понять пытается, зачем обманули. Ей уже все объясняли, и Алка объясняла, что низачем. Что просто так. И что нечего об этом не только думать, но и задумываться. Но Ирине объяснять — только время портить. Она слушает, головой кивает, а потом говорит:
— Нет, Ал, ну зачем он мне всё это рассказывал? Он мне кто? Так же, как и я ему.
Да, так вот, не было у Ирины с Вовой никаких тесных интимных контактов. Ни в школе когда учились, ни когда Вова из армии приезжал в мундире и сапогах, ни когда он разбогател на электрочайниках, ни когда обнищал, не выдержав рыночных отношений между людьми. Ирина на этот счёт хоть на Библии, хоть на Коране может поклясться, хоть на чём угодно. Дружеские контакты — были, а интимных не было. За все годы их близкого знакомства. А дружили они всегда: между собой в годы юности и надежд и семьями позже дружили, и после распада семей — тоже дружили и поддерживали друг с другом непрерывную связь. Может, привычка у них временем сформировалась. Или душевная потребность. А может, и правда, были они близки друг другу в высоком понимании, духовно и платонически. И вот Вова, пережив очередной свой какой-то крах очередной семейной жизни, позвонил Ирине без предупреждения и сказал:
— Я приду.
Ирина как раз только с работы вернулась, после суток. Она в круглосуточном магазине продавцом работает. На колбасе. И гостей принимать было ей ну никак не с руки. Потому что ей спать в прямом смысле слова хотелось, а не гостей. И она сказала:
— Вова, у меня нету ничего на предмет угощения. Пирожков не пекла — духовка сломалась.
Насчёт пирожков — это Ирина образно сказала, бессовестно приукрасив действительность. У неё в доме никогда пирожков не было и нет, и вообще ничего нет. Из съестного. Только чай и масло сливочное. Причём в отсутствие хлеба — поскольку фигуру она бережёт, как зеницу ока. То есть сохраняет её остатки, говоря, мол, фигуру маслом не испортишь, особенно в отсутствие хлеба. А на плите, если что у Ирины и варится, так это бельё. Бельё вываривать, это да, это она любит. А больше ничего не любит. И не варит. Уже давно. Чтоб насекомых лишних в квартире не разводить и их жизнедеятельность собственными руками не поддерживать. Ей самой ничего не надо. А дочка родная и любимая от неё ушла. Бросила мать, значит. Ради того, чтоб жить самостоятельно вдвоём с каким-то мужчиной рабочей профессии. И главное, ничего Ирине не сказала. Бабушкам обеим сказала, а Ирине — ни слова. Не пришла в энный какой-то раз ночевать, и с тех пор Ирина её дома не видела. К ним домой, всё простив, ходила Ирина однажды. И не с пустыми руками ходила, а купив на последние деньги дочери спираль — знакомая аптекарша ей оставила импортную. Ну, чтоб аборты делать не нужно было, как сама она когда-то делала — по два раза в год. Дочь обрадовалась спирали, искренне благодарила, а потом отнесла её той же самой аптекарше, чтобы продать. Обманула, значит, Ирину, как и все другие обманывали. А аптекарше что? Она же не думала, что Ирина ничего про эту афёру не знает. Думала «ну, наверно, не подошла спираль или не понадобилась».
Так что кормить дома Ирине никого не нужно. И себя не нужно. Она на работе ест из ассортимента, что хочет, в пределах трёшки на свой вкус. Плюс раз в день рыбу жареную. Ей один Коля сто долларов должен и долг свой отдаёт рыбой свежевыловленной потрошённой. И таким образом, дома Ирина имеет возможность за фигурой следить или, точнее, не следить, а присматривать. Поскольку без присмотра этого уже нельзя по-хорошему обойтись. И так одно название от фигуры осталось. Никакой одеждой её не скроешь. Тело, оно тело и есть. И единственный выход — это его, тело то есть, не кормить. По крайней мере, вдоволь. И может быть, тогда его станет меньше.
— А я со своим угощением приду, — сказал Вова. — В смысле, с закуской.
И таки пришёл, не заставив себя долго ждать. Принёс подмышкой тарелку холодца собственного приготовления и бутылку водки, которую купил по дороге. И ещё принёс Вова две наволочки.
— Это зачем? — Ирина у него спрашивает.
А Вова отвечает:
— Ты мне постирай их, а? В знак гуманитарной помощи. — И: — Ты же, — говорит, — мне друг или не друг?
Ирина, конечно, подумала про себя, что этого ещё ей не хватало, но наволочки у Вовы взяла.
— А с Валентиной я — всё, — сказал ей на это Вова. — Расстался. Теперь вот холодец ем. И делаю, что считаю нужным и для себя полезным.
Он поставил холодец на стол и заплакал. Ирина посмотрела на холодец внимательно, и холодец вздрогнул.
Валентина, кстати, это женщина такая, пришедшая на смену второй Вовиной жене. Старше его лет на семь, но ничего, симпатичная, хваткая и в материальном смысле некапризная. А какая связь между Валентиной и холодцом, Ирина не поняла.
— Мне-то что? Всё ты или не всё, — сказала Ирина. И сказала: — Не плачь, найдёшь себе кого-нибудь, на каждый день.
И тут её женский взгляд упал на Вовой принесённые наволочки. До этого она их держала в руках без внимания.
Да, таких наволочек видеть Ирине в жизни своей не приходилось даже в эпоху застоя развитого социализма. Цвет они имели тёмно-серый, и жир на их поверхности блестел и лоснился.
И стало ей Вову жалко.
— Ладно, давай свой холодец, — сказала Ирина и поставила на стол рюмки-тарелки и всё, что для принятия пищи нужно.
И выпила она с Вовой водки, холодца поела — вполне съедобный холодец оказался, — дала ему впервые в жизни, из жалости и печали, так сказать, по-родственному, как мать, а завтра на работу не пошла. Поскольку выходной у неё был завтра по графику. А Вова неизвестно куда пошёл, так как ему вроде тоже никуда не надо было идти, он свободен был от всего и от всех временно. Но он пошёл. «Может, за второй тарелкой холодца?» — подумала Ирина.
И после его ухода трижды выварила она наволочки — в трёх водах с порошком. Постирала их вручную, накрахмалила, высушила и выгладила. Смотрит на них, любуется контрастом и думает: «Надо, — думает, — было их сфотографировать до стирки, и после стирки тоже сфотографировать. Или хотя бы взвесить».
Короче говоря, в этот день Вова больше не появился. И завтра не появился. А послезавтра Ирина снова на работу ушла. На сутки. Но он и после этих суток не появился. Вова. И после следующих. Пропал.
«Подарил он мне наволочки свои, что ли?» — спрашивала у себя Ирина. И в конце концов пошла Вову искать. Потому что не нужны были ей его наволочки на добрую память.
Приблизительно она, из Вовиных слов и рассказов, знала, где он жил, снимая квартиру на двоих с Валентиной, с которой у него — всё. А точно — не знала. Решила «найду, если что. А у Валентины новое Вовино место жительства выясню. Если, конечно, знает она, где он теперь холодец варит».
Двор Ирина нашла легко, всех, кто попался ей во дворе, опросила, и установила, где конкретно Вова с Валентиной проживал.
Позвонила в дверь. И её открыл, конечно, Вова. Собственной своею персоной, гад. Увидел Ирину, палец к губам приложил указательный и говорит без голоса:
— Тс-сс.
Ирина говорит:
— Что тс-сс? Что тс-сс? — и вошла, Вову с пути рукой устранив.
Понятно — сидит посреди квартиры тётка какая-то в халате и без макияжу. Ирина ей говорит:
— Здрасьте. Вы Валентина, с которой у Вовы всё?
А Валентина говорит:
— У кого это со мной всё? У него всё? Да я ему такое всё покажу — костей не соберёт.
Ирина говорит:
— Вова, у меня к тебе важное дело.
Вова говорит:
— На тему работы? — и моргает.
— Работы, — Ирина говорит. — Чего же ещё! — и достаёт из сумочки две наволочки. — На вот, это тебе Света с Зиной передали.
— Какая Света? — Вова говорит. — С какой Зиной?
— Обыкновенные. Ты что, Свету с Зиной забыл?
Свету Ирина на ходу придумала, экспромтом. Не говоря уже о Зине. Мол, пусть поломает свою голову, кто они такие, и Валентине своей пусть объяснит. Уязвила, в общем, Ирина Вову. И ей от этого стало легче. Легко — нет, не стало. Но немного легче — стало.
Если б ещё наволочки она не стирала, как последняя, вообще бы наплевала Ирина на Вову и его поступки необъяснимые, и забыла бы всё быстро и навеки. То, что дала она Вове, так мало ли кому она в жизни давала. Вовой больше, Вовой меньше — значения не имеет. Но если всем, кому даёшь, ещё и наволочки стирать…
И, невзирая на присутствие Валентины Вовиной и на Вову тоже невзирая, сорвалась Ирина, в руках себя не удержав, и закричала в пространство:
— Ну почему, — закричала, — меня все обманывают? Я им наволочки отстирываю, спирали на последние деньги покупаю — а они…
Что «а они», Ирина не сказала, смолкла.
Да и какая в хрена, если вдуматься, разница?
Четыре сантиметра
Так-то она была симпатичная, Люся. А после парикмахерской — если попадала стричься к Юле, а не к Ире, — даже и красивая. Да, можно сказать, что красивая. Поскольку и голову, и лицо Люси точнее всего характеризует именно этот эпитет — «красивые». Другое дело — независимое от совершенства головы, причёски и черт лица, — прихрамывала она. На всю правую ногу. И даже не прихрамывала, а припадала. Потому что правая нога была у неё по замерам на четыре сантиметра короче левой. Таким её одарила природа физическим недостатком и дефектом. Не самым, если объективно рассуждать, ужасным, но бесспорным и в глаза, особенно при пешем движении, бросающимся. Было б этих сантиметров поменьше — ну хотя бы три, — и они могли обеспечить совсем другую плавность хода. А четыре — это слишком много и слишком наглядно.
Конечно, горб, допустим, или слабоумие, или паралич какой-либо — гораздо более видные недостатки и более неутешительные. И Люся их была лишена напрочь. Но и без них никто её замуж за себя брать не стремился. Семён Чуев только примеривался к ней какое-то время. Как выпьет вина «Портвейн красный», так вроде ничего — любезен, побрит и прочее. Вплоть до того, что в горсад гулять под ручку — готов и на всё согласен. А если дать ему символически коньяку, то мог он произнести и заманчивую, бередящую кровь фразу: «А не предаться ли нам любви и тому подобному?» И знак вопроса интонациями обозначал Семён Чуев исключительно ради общечеловеческих приличий и дани правилам этикета. На самом деле он намекал Люсе на конкретное предложение, которое она принимать почему-то не спешила — наверно, по глупости. Но пребывая в трезвом уме, даже и Чуев смотрел на иноходь Люсину удручённо. И тяжело молчал. Потом, насмотревшись, когда проходили они мимо дворца бракосочетаний и иных актов гражданского состояния, сказал как бы невзначай:
— Нет, не могу я на этот безумный шаг пойти и отважиться. Поскольку, — сказал, — героически сопьюсь, если ежедневно стану остроту зрения в себе заглушать до расплывчатости.
И ушёл навсегда. Решительно. А другие и не приходили. Жулика Мишку Спайкина можно не учитывать. Хотя он однажды и приходил. Пришёл, а у Люси день рождения очередной, и в гостях одна соседка и одна сотрудница. Коллега, другими словами. Сидят, чай пьют, торт «Каприз» едят, беседуют, ведут себя тихо. Мишка увидел этот их нетрадиционный подход к празднованию и говорит:
— А где вино и другие приличествующие моменту напитки?
Люся ему говорит:
— Зачем нам вино? Нам и без вина хорошо и почти прекрасно.
А Мишка:
— Нет, — говорит, — так нельзя, потому что смотреть на вас мучительно стыдно. Давай мне как именинница десятку — я сбегаю! Это будет мой тебе скромный подарок.
Люся с гостьями своими культурно переглянулась и с их молчаливого согласия дала Мишке денег.
Мишка говорит:
— Жди меня, и я вернусь. А если не вернусь, — говорит, — считайте меня этим, как его?.. Педерастом!.. Не, не. Этим… Коммунистом. Во!
Сказал он так, взял деньги и не вернулся. Поэтому Мишку Спайкина можно не учитывать и во внимание не принимать. Не стоит Мишка Спайкин внимания, как не стоит вообще ничего — яйца ломаного, и то он не стоит.
И вот села Люся — после того, как дверь за Чуевым недвусмысленно захлопнулась, — и начала красивой своей головой думать: «Что делать, что делать? И что же мне теперь делать?» — долго и мучительно думала она, сидя, не приходя ни к чему. И всё-таки думала Люся не зря и не совсем напрасно, придумав в результате простую, в сущности, вещь — гениальную, как всё простое. Дать объявление она придумала. В газету. Мол, создам здоровую семью с человеком мужского пола, имеющим аналогичный дефект и серьёзные намерения. Брачного характера объявление, значит.
И взяла Люся белый лист чистой бумаги, взяла ручку шариковую и написала крупным почерком слово «Объявление». И под этим словом изложила приблизительно всё как есть и свои приоритетные пожелания кандидату в депутаты. Тьфу. В мужья. Ну конечно, в мужья. То есть на пожеланиях-то она и споткнулась. Нет, большая их часть была ей ясна и приятна. В том смысле, что семью она намеревалась и готова была создавать с мужчиной, православным Скорпионом, возраст в пределах разумного, образование как получится, внешность значения не имеет — лишь бы не блондин и не урод. И главное — чтобы этот будущий её муж и мужчина припадал на одну ногу.
И вот в этой части — на какую именно из ног он должен по её замыслу припадать, на правую или наоборот, на левую, она, увязнув, застряла. И выбрать для себя лучшее не могла. Ну просто ни в какую не решалась у неё эта, так сказать, теорема Ферма.
Люся представляла в своём воображении, как они, допустим, познакомятся и поженятся и как будут идти по улице вместе в булочную, нога в ногу, с одновременным наклоном вправо на каждом шагу. Она даже изобразила на другом, отдельном, листе бумаги, как это должно выглядеть в жизни. Провела строго вертикальную черту, с одной стороны от неё нарисовала себя в масштабе, ступающую на правую, укороченную ногу, а с другой — предполагаемого Его нарисовала. И тоже ступающего на правую.
Получилось не слишком красиво. Две фигуры, склонённые вбок и похожие на кроны деревьев под северным порывистым ветром. Качающиеся принудительно в унисон. Нет, это было не то.
И задумалась Люся пуще прежнего, и фактически пришла сквозь сомнения к выводу, что лучше бы ему припадать на левую, симметричную, значит, ногу. А то — что это за картина получится, со стороны если? Когда оба они будут на одну ногу припадать и в одну сторону склоняться? Людей же, хоть с дефектами, хоть без дефектов, всегда волнует, как они выглядят со стороны. Но если вдуматься и честно себе признаться — оно и в разные стороны отклонение от вертикали не красивее и не лучше. А может быть, в чём-то и хуже, сильно напоминая при ходьбе работу дворников грузовика ГАЗ-51 середины прошлого века. Люся, чтоб убедиться, и этот вариант эскизно прорисовала. И он, как и следовало ожидать, её не удовлетворил. С эстетической точки зрения. Потому что Люся имела специальность чертёжника. И с эстетикой у неё всё было в порядке и на уровне. К эстетике она профессионально предъявляла высокие требования, а других, не высоких, не предъявляла и не признавала.
«А может, пусть у него будет другой дефект? — после месяца сомнений и разглядывания своих рисунков подумала Люся. — Что-нибудь с рукой или там с внутренним каким органом не смертельное. Или, — подумала, — пусть вообще не физический дефект, а, к примеру, моральный». Однако и эти, возможные, но призрачные перспективы личной жизни имели свои слишком слабые ахиллесовы места. Поскольку рука, хоть и сто раз правая — это всё равно не нога, и кто ж на такой бартер и мезальянс пойдёт, не говоря о внутренних, сокрытых от внешнего взгляда, органах. А морально дефективных людей (мужчин в особенности) Люся боялась и всегда, всю свою средней продолжительности жизнь, старалась избегать и обходить. В расширительном, разумеется, смысле слова.
Так она и не смогла составить вразумительно объявление, и в газете его, значит, не разместила, и массовым тиражом не обнародовала.
И теперь наедине с собой — а она всегда с собой наедине — думает Люся об упущенных безвозвратно шансах и возможностях: «Надо было, — думает, — предаться любви с Чуевым Семёном. Как минимум, два-три раза. А если не предаться, так хоть переспать с ним. Несмотря на то, что чучело он полное». Зато мог бы от него родиться какой-нибудь ребёнок — это Люся уже не думает, а грезит, — и ноги у него были бы, как у всех, одинаковые, сантиметр в сантиметр, потому что неправильная длина ног с материнскими генами не передаётся. И она бы растила его изо дня в день, любя больше всех на свете. Хотя на её зарплату чертёжницы это было бы нелегко. Да, конечно, нелегко…
А что, так вот, как сейчас, без него и без никого вообще — разве легче?
Рассказы со счастливым концом
С песней
Так, как Ваня служил в советской армии, служить можно хоть два года, хоть двадцать два. Потому что он легко служил и непринуждённо, а именно пел в ансамбле песни и пляски имени Александрова, по тем временам краснознамённом. И не в гуще хора он пел, третьим слева в пятом ряду, а самым что ни на есть солистом. Несмотря на молодость, граничившую с юностью, и высокое воинское звание «рядовой». То есть он пел одним своим голосом на фоне всего, крупнейшего в Европе хора, и весь хор ему дружно подпевал, вторил и завидовал. Ваню же служить из музучилища призвали в качестве народного таланта и самородка первой величины, подающего большие надежды.
И объездил Ваня в составе ансамбля всю тогдашнюю страну и, без преувеличения можно сказать, весь мир. Ну, или полмира. Так будет точнее и ближе к истине в последней инстанции. И везде он получал заслуженные аплодисменты, переходящие в овации, похвалы старших по должности коллег, не более чем трёхместные номера в гостиницах и диетическое питание повышенной калорийности. И всё бы у него шло, наверно, как по маслу, до самой пенсии и демобилизации после сверхсрочной службы родине, если бы не вышеупомянутое питание. То есть если бы Ваня, питаясь, не влюбился по уши в Нинку. В повариху четвёртого разряда и лёгкого поведения. С которой не только хор с танцевальным коллективом, но и соседний полк, включая всех своих сынов, и штаб полка, и от командиров взводов, до самого подполковника Исакова с адъютантом. Ну, вы понимаете, о чём тут завуалировано идёт речь… А Ваня влюбился, поев Нинкиного пюре фирменного, и будучи натурой творческой, вызывающе женился на ней. Ясно, что вскорости родили они в содружестве с молодой женой ребёнка, после чего кормящая Нинка в мгновение ока — ну буквально пока Ваня дослуживал свой срок в ранге солиста — загуляла и исчезла за горизонтом навсегда. Как в газетах пишут — ушла из дому и не вернулась, канув в Лету. И оставив матери Ваниной, Ираиде Андреевне, грудного в полном смысле этого слова ребёнка.
А мать Ираида Андреевна написала Ване в письме, мол, Бог с ней, с Нинкой, у неё всё равно молока в груди считай не было, что только к лучшему, а ты давай, бросай свои песни с плясками при первой возможности. Ребёнка на ноги поднять я тебе, так и быть, помогу по-родственному, заменив ему собой мать и мачеху, а денег на воспитание и прочие расходы ты обязан заработать — как отец и одинокий мужчина. Раз ты у меня таким дураком оказался.
И Ваня, подчинясь матери и судьбе, не остался служить сверхсрочно вдали от дома, хотя его и удерживали вышестоящие чины ансамбля, обещая послать в консерваторию, в Ла Скала и чуть ли не в Большой театр. Он по приказу из армии демобилизовался — отслужил, значит, как надо, и вернулся. И наступив на горло себе и собственной песне, стал работать дальнобойщиком на бортовой машине «ЗиЛ-130» с прицепом. Чтобы хоть страсть к разъездам и путешествиям в себе не отменять. Курсы водительские при обществе ДОСААФ с отличием закончил, права получил и стал не долго думая работать. И работа пришлась ему по вкусу, и он отдался ей всей душой артиста. Потому что, кроме прочего оказалось, что пению такая работа — никакая не помеха. Ваня загружался согласно накладной, выезжал на трассу, допустим, Симферополь — Москва, нажимал на газ до пола и пел. Радуясь во весь голос жизни. А что аплодисментами на песни ему никто не отвечал и не отзывался, так это даже неплохо. Кланяться не надо. Кланяться Ваню в ансамбле так и не научили, кстати. Один старый солист ему говорил по дружбе: «Ты, как медведь в цирке, кланяешься, а не как артист, в будущем, возможно, заслуженный», — к чему старшина хора добавлял: «Чтобы кланяться по уставу, особая выправка нужна. И строевая подготовка, а не горло драть».
А когда бывал Ваня не в рейсе выходным, он варил сам себе из картошки, по Нинкиному рецепту, пюре, любя его беззаветно, пил по традиции водку, играл с ребёнком в домино, а также на аккордеоне. Ну, и пел опять-таки на всю улицу родную песни из репертуара краснознамённого и любимого страной ансамбля. А иногда пел не как обычно, а со слезами на глазах. Пришьёт свежий подворотничок, наденет форму с лирами в петлицах, по стойке «смирно» вытянется и поёт. А слёзы из глаз по щекам на грудь стекают. Но это только когда выпивал он больше, чем организм от него требовал, и природа этих слёз так и не была Ваней до конца изучена. Наверно, он был ранимый или имел тонкую нервную организацию.
Приглашали Ваню и на бракосочетания с аккордеоном и песнями. В выходные его дни. Представляете свадьбу, на которой от души поёт солист краснознамённого ансамбля, даром что бывший? Да на эти свадьбы люди, как на праздник, в смысле, как на концерт, ходили. И даже из отдалённых уголков нашей бывшей великой родины приезжали, рассказывая потом дома от Москвы до Бреста и Якутска, что такого свадебного пения они ещё никогда в жизни не слышали и никогда больше не услышат. Не зря на одной молодёжной свадьбе — это уже при генсеке Горбачёве — церковный священник предложил Ване расширить свой кругозор, чтобы петь ещё и на отпеваниях покойников, а также во время торжественных богослужений по православным праздникам в храме. Но Ваня идеологически сомнительного предложения не принял. Сказал: «Я Бога уважаю, но не верю, являясь беспартийным атеистом, поэтому, — сказал, — как же я буду ему служить? Да и в рейсе я бываю независимо от праздников, будней и покойников».
Священник не стал Ваню уговаривать — сан ему, видно, этого не позволял, — только сказал, что вера, как и смерть, к каждому неизбежно приходит и что платил бы он Ване с щедростию и с поправкой на талант, дабы надобность ездить в рейсы отпала у него сама собой. А это совсем уже Ваню не устраивало и не прельщало. У него к регулярности рейсов давно выработалась устойчивая привычка и потребность. В промежутках он мог как угодно собой распоряжаться: те же свадьбы Ваня обслуживал и музыкально сопровождал между рейсами — но не иначе. Случалось, приходили к нему послы, мол, приглашаем с баяном седьмого, скажем, августа, а Ваня им отвечал: «Во-первых, с аккордеоном, а во-вторых, седьмого я не могу, я в рейсе». Они говорили: «А что же делать? Бракосочетание назначено». «Ну, так как рейс перенести нельзя, — говорил Ваня, — переносите ваше сочетание. На любое, удобное для меня время. Я же не могу в рейсе вам на аккордеоне аккомпанировать. В рейсе у меня руки заняты». И переносили. Один раз до того перенесли, что невеста после первого же «горько» подарила жениху скромный подарок — мальчика и девочку общим весом пять с половиной килограммов. Не дотерпела.
Но в рейсах Ване всё это было безразлично, в рейсах ему было не до свадебных драм и трагедий. Тем более года через три активного трудового стажа его повысили, назначив бригадиром комплексной бригады водителей, и его все в автоколонне много лет потом уважали. За то уважали, что никак он своей бригадой не руководил, а просто крутил баранку честно и откровенно, а также и безаварийно. Да и как он мог руководить, находясь в рейсе за тысячу километров от автобазы в целом и от каждого члена бригады в частности? Или имея законные выходные, которые проводил в узком кругу своей неполной семьи за выпиванием водки, кушанием пюре и за пением под аккордеон? Никак не мог. Хотя другие как-то руководили, умудрялись.
Нет, всё-таки Ваня правильно прожил свою жизнь. И достойно. Не в искусстве, к сожалению для искусства, но достойно. И в основном жизнерадостно. С песней. А талант свой незаурядный он сыну передал из рук в руки. Ребёнку, значит, своему, с Нинкой в любви рождённому. Талант, он никогда бесследно не пропадает и даром не проходит. И сын Ванин теперь тоже поёт. Пускай не в ансамбле, а в группе, и не на аккордеоне играя, а на треугольнике таком, специальном. Но это уже детали неглавные.
Ваня один раз их концерт посетил, когда в столице застрял с грузом. Там очень удачно всё сложилось. Пока очередь Ванина подошла разгружаться, наступил выходной день недели, и Ваня позвонил по телефону сыну — ну, чтоб в кабине ЗиЛа не ночевать без удобств. А у сына как раз концерт под названием шоу. И он Ваню бесплатно провёл в зал, и Ваня сидел в первых почётных рядах партера и шоу это воочию наблюдал. Ничего сын его играл. И пел ничего. Современно. Только громко. У Вани прямо голова разболелась, чего никогда с нею не бывало ни при каких условиях.
В общем, не стала природа на сыне Ванином отдыхать, и, значит, не зря жизнь свою Ваня прожил. Невзирая на то, что шофёром, а не солистом.
И умер с лёгкостью — не тяжелее, чем в армии служил. В свой день рождения. Накануне праздник души устроил себе и людям, хоть и предупреждали его, что нельзя заранее отмечать, не принято. Но в день рождения ему как раз в рейс выпадало. Вот он и отметил не вовремя свой первый в жизни юбилей. Который оказался последним.
В пути почувствовал себя Ваня плохо. Попробовал петь — не поётся, попробовал вдохнуть — не вдыхается. Тогда он на обочину съехал, сел в кювете, спиной к колесу прислонился — и всё. А часа через три возвращался по той же дороге домой водитель Пухов — член бригады. Увидел — Ванина машина стоит, притормозил. А то бы мог Ваня долго так просидеть, неживым. На трассе, в степи под Полтавой.
Проводить Ваню в последний рейс приехали пятьдесят машин. Ни больше ни меньше. По количеству прожитых им лет. И все ЗиЛы сто тридцатые. Только без прицепов. Сын тоже из столицы приехал. И друг Ванин армейский, ещё из ансамбля, друг юности, значит. Один. И все говорили: «Смотрите, всего один друг из хора имени Пятницкого приехал», — и были по-человечески несправедливы, поскольку нельзя не учитывать, что тридцать лет прошло со времён Ваниной срочной службы солистом, тридцать лет и вся жизнь. А друг этот, глядя на грузовики газующие в колонне и, сигналя, за гробом ползущие, сказал сыну Ваниному: «Да-а, — сказал, — нет у представителей святого искусства такого завидного отношения друг к другу». И ещё он сказал, что шофёры, они, конечно, простые до невозможности, но искренние".
И всем на похоронах было искренне Ваню жалко. Ему же только пятьдесят лет исполнилось. Только же отпраздновали. Ваня пел и на аккордеоне играл, как на творческом вечере в Останкино, и все гости ему аплодировали громом аплодисментов, выпивали с ним за его здоровье и желали долгих лет жизни и деятельности. И Ваня кланялся как умел, выпивал с гостями оптом и в розницу и говорил всем спасибо на добром слове и извините, говорил, если что не так…
Если б ему назавтра не в рейс, а отлежаться, может, и не умер бы Ваня за рулём. Наверно, выпил он много лишнего. За что осуждать его ни в коем случае нельзя. Гости и товарищи по работе пришли, и все хотели с виновником юбилея собственноручно выпить. И Ваня, будучи добрым человеком, никому не отказывал. Не учёл, что внутренние органы у него не резиновые.
А может, к Ване просто срок последний пришёл, который ко всем приходит. Если б когда-то мать свою Ваня не послушал и не уволился из краснознамённого ансамбля песни и пляски, а пошёл сквозь тернии к намеченной цели, может, пел бы он себе и пел. Может, по сей день пел бы в тепличных жизненных условиях. Солисты ансамблей долго поют. Чего о шофёрах дальнего следования никак не скажешь.
Да и мать не осталась бы на старости лет без Вани, один на один со смертью,
приближающейся к ней
неумолимо.
Злой дедушка
Дедушка Яша сегодня злой. Он и вообще злой, не только сегодня. Но и сегодня тоже. Сегодня он очень злой. Бывают дедушки добрые. А бывают злые, как собаки. Так дедушка Яша — злой, а не добрый. Поэтому он говорит внуку:
— Не бегай, прибью! — и даёт ему сначала оплеуху, потом подзатыльник.
От подзатыльника внук падает носом в ковёр. И начинает визжать.
— Не визжи, — говорит ему дедушка.
Что так разозлило сегодня дедушку, он и сам не заметил, упустил из виду. Ничего не разозлило. Потому что ничего не произошло и не случилось. Что у него может произойти? Или случиться? Всё как всегда. А злость изнутри сама поднялась, подобно изжоге, и пошла горлом наружу, на свет Божий.
Дедушка вздёргивает внука и ставит на пол. Внук вырывается, визжит и сползает. И опускается на колени.
Дедушка опять его вздёргивает, внук опять сползает.
Дедушка вздёргивает, внук сползает. И визжит.
Дедушка трясёт внука. У внука болтается голова. Стучат зубы. Его визг дребезжит и колеблется.
Это дребезжание тоже злит дедушку. Оно его распаляет. Злость из него просто уже извергается. И от её извержения он получает смутное, но всё-таки удовольствие. Да, удовольствие сомнительное. Но хоть какое-то.
Других удовольствий у него ведь никаких не осталось. Лишён всех, подчистую. Поесть не может, выпить тем более. Желудок, печень, кишечник сверху донизу — все, в общем, суббпродукты у него внутри испортились и пищу человеческую привычную решительно отвергают. Об иных, более житейских удовольствиях и говорить нечего. А вернее — больно. Ему аденому только что удалили, с кулак школьника младших классов. Вместе со всем хозяйством, как это принято у врачей-урологов. Да что-то там ещё неудачно у них получилось. Сверх ожиданий. Теперь попИсать — и то удовольствие. Не всегда доступное.
А когда злоба, за жизнь в дедушке Яше накопленная, из него выходит, ему лучше становится. Хорошо, можно сказать, ему становится на душе и легко на сердце.
— Оставь ребёнка в покое, — говорит жена дедушки. Бабушка, другими словами. Она была в кухне и пришла на крик.
— Лизанька, пошла на хуй, — говорит дедушка ласково, и левая щека у него вздрагивает.
Лизанька вытирает с лица первые слёзы, отчего на душе у дедушки становится ещё легче.
Бабушка подходит к внуку, поднимает с колен. Внук утыкается ей в передник. И они плачут вдвоём. Внук — в голос и взахлёб, а бабушка — беззвучно, одними глазами.
— Где твоя хренова дочка? — говорит дедушка. — Вторую неделю не является. Подкинула своего выродка.
— Совсем ты рехнулся, — говорит бабушка. — Это же твоя дочь. И твой внук.
— Мой, не мой, — говорит дедушка. — Откуда я знаю, что он мой?
Дочка действительно уже больше недели не приходит. И не звонит. Она налаживает свою семейную жизнь. У неё семейная жизнь время от времени требует наладки. Как трактор или как станок с программным управлением. Потому что муж, пока жили они с её родителями вместе, вышел с тоски из строя — стал выпивать и пропадать куда-то без вести. А когда она поняла, что от мамы с папой надо бежать без оглядки, и сняла где-то у чёрта на задворках квартиру, муж выпивку не оставил и пропадать не прекратил. По инерции, видно, в нём укоренившейся. Поздно она спохватилась, успев мужу опротиветь, вместе со своими родителями. Особенно с папой. И она пытается жизнь с мужем своим как-то наладить. А жизнь то налаживается, то опять разлаживается и буксует, и идёт наперекосяк юзом.
«Да, позвонить, конечно, могла бы», — думает о дочке бабушка. Бабушка дочку жалеет. И внука жалеет. Нервный он, внук, получился. Это если мягко сказать. А если как есть — ребёнок страшно психованный и истерически необузданный. Поздновато дочка его родила. Возможно, от этого все неприятности. Но раньше у неё не складывалось — родить. Она от всей души хотела, стремясь стать матерью, но найти, от кого бы ею стать, не могла. Слишком долго не могла найти. У неё до тридцати лет и мужчины-то не было. Ни одного. По наследству это ей передалось, что ли? Скорее всего, по наследству. Сама она, бабушка, тоже замуж вышла в двадцать восемь с копейками. И за кого вышла, за того и вышла. С закрытыми на всё глазами. Не до жиру ей было, не до выборов. Потому что никому в голову не приходило на ней жениться. Кроме Яши этого с улицы Керосинной. Почему не приходило — непонятно. Была она не хуже других в молодости. Обыкновенная.
— Нет бы денег оставила, — говорит дедушка. — Что я, обязан её сына кормить? На свою пенсию.
— Зачем тебе её деньги? — говорит бабушка. — Есть же деньги. И еда в доме есть.
— А это её, раз ушла от нас, не касается, — говорит дедушка. — Мало ли что у меня есть.
Тут бабушкино терпение заканчивается:
— Да что там у тебя есть? Сволочь! — она говорит это тихо, сквозь слёзы, себе в усы. Но дедушка слышит. Или догадывается. Или всё, что о нём можно сказать, он знает наперечёт. И тем не менее переспрашивает:
— Что ты сказала? Повтори.
Бабушка берёт внука на руки и уходит в кухню. И закрывает за собой дверь на крючок.
— Вот и не высовывайтесь оттуда, — говорит дедушка Яша и снимает с телефона трубку.
Он сидит и думает, куда ему нужно позвонить. Но звонить ему никуда не нужно.
Бабушка гладит внука по голове, по спине. Прижимает к просторной груди. Внук успокоиться не может, рыдает, всхлипывает. Бабушка гладит его и приговаривает:
— Не плачь, Веня, не плачь. Дедушка у нас сволочь. А ты не плачь.
— Ба, — говорит внук сквозь икоту, — почему он такой?
— Рыжий он, — говорит бабушка. — Поэтому такой.
— Я тоже рыжий, — говорит внук. — Значит, и я такой?
— А ты не такой, — говорит бабушка. — Ты другой. Не плачь.
Дедушка держит трубку навесу, и непрерывный гудок в ней сменяется частыми и короткими. Он держит трубку долго. Ладонь его потеет и становится скользкой. Наконец, он набирает номер и ждёт. На том конце провода снимают трубку, а дедушка на этом её кладёт. И опять набирает номер. И опять кладёт трубку. И опять набирает номер.
Это он создаёт Терещенко весёлую жизнь. В переносном, конечно, смысле. Терещенко — дедушкин враг до гроба и на все времена. Он двадцать лет назад продержал его двое суток в кутузке, угрожая посадить за вымогательство по всей строгости закона. Потом, правда, выпустил.
Терещенко этот был начальником райотдела милиции, а дедушка — районным наркологом. И он на разных совещаниях городских непримиримо выступал — что Терещенко с пьянством и алкоголизмом во вверенном ему районе не борется и усилиям врачей в этом стратегически важном направлении не способствует. Вот Терещенко и отомстил. Дедушка пришёл в гастроном, к папе одного юного алкоголика, которого он втайне от общественности лечил. Папа этот работал завмагом, и дедушка взял у него курицу и палку «Советской» колбасы к празднику. Тут его по заданию Терещенко и накрыли. С поличным, так сказать.
И с тех пор дедушка всегда в инстанции сообщал, что огромную неоценимую помощь в борьбе с пьянством оказывает медработникам краснознамённый капитан Терещенко, и алкоголизм в его районе неуклонно истребляется всеми доступными способами не на жизнь, а на смерть.
Конечно, он стал врагом дедушки Яши, тогда ещё совсем не дедушки. Врагом, против которого дедушка был бессилен и лишь преувеличенно улыбался при встрече, и к руке его со всех ног кидался — пожать.
Зато теперь он часто дразнит старого Терещенко звонками, доводя его до абсурда и бешенства. Теперь-то Терещенко ничего не может. Теперь он тоже бессилен. И они с дедушкой теперь на равных.
— Привет, рыжая сволочь, — слышит вдруг дедушка Яша. Замешкался он и не успел положить трубку сразу после того, как Терещенко её снял.
И звонить заклятому врагу сразу расхотелось. А кому бы ещё позвонить, дедушка придумать не может. Дочери он уже звонил сегодня не раз. Хотел сказать всё, что о ней думает. Но телефон у дочери не отвечает с раннего утра. Выключила она телефон. Это как пить дать.
«Который, интересно, час? — думает дедушка Яша. — Надо узнать». Он набирает 100, прикладывает трубку к уху и слушает.
— Восемнадцать часов тридцать одна минута, — говорит трубка голосом дочери. — Восемнадцать часов тридцать одна минута… Восемнадцать часов тридцать одна минута…
— Пошла на хуй, — кричит дедушка в трубку и швыряет её на рычаг. Трубка на рычаг не попадает, ударяется об пол, и по ней разбегаются трещины.
Из кухни выходит внук. Он почти успокоился. Только глаза от недавних слёз красные и блестят.
— Дедушка, ты сволочь? — спрашивает внук.
Короткая пауза. И ему в голову летит телефон.
«Долетит или шнура не хватит? — думает дедушка Яша и куда-то проваливается. Как будто из-под него выдернули ноги.
Бабушка выходит из кухни, берёт внука за руку. Они переступают через дедушку и идут к соседу, к Лейну. Сосед у них терапевт со стажем. А Лейн — это его фамилия.
Сосед сразу же приходит, осматривает дедушку и говорит:
— Мда-а…
Бабушка говорит:
— Я думаю, надо его в больницу.
Сосед не говорит ничего. Он ещё раз осматривает дедушку. И говорит:
— Я думаю, не стоит.
И делает дедушке укол. На всякий случай. Общеукрепляющий.
А дочка, между прочим, так и не позвонила. Ни сегодня не позвонила, ни завтра, ни послезавтра. И телефон у неё как не отвечал, так и не отвечает по сей день в любое время суток. Даже ночью не отвечает у неё телефон. Может, сломался?
Грустная смешная обезьяна
Я осматриваю замки и на всякий случай ощупываю их пальцами. Кажется, я уже осматривал их сегодня. Или это было вчера. Вчера точно осматривал. Перед отходом ко сну. Перед отходом я всегда осматриваю замки. Мне нужно удостовериться в том, что я не забыл их закрыть, в том, что они заперты. Хотя я их и не отпирал. Но мало ли что не отпирал. Проверить лишний раз никогда не вредно. Замок — механизм сложный. Вдруг в нём какая-нибудь пружина сломалась от старости или какой-нибудь рычажок внутренний и важный. И замок стал открываться чем угодно. Или вообще сам собой стал открываться и пребывать в открытом состоянии автоматически.
Да, вот. Именно так. Я автоматически проверяю замки. По привычке, укоренившейся во мне с прежних времён. С тех времён, когда я выходил из квартиры и, значит, неизбежно входил в неё, возвращаясь. То есть я отпирал дверь снаружи, входил и запирал её изнутри. И понятно, что иногда мне приходил вдруг в голову вопрос — а не сижу ли я в открытой, доступной для всех желающих квартире, забыв запереть дверь? И я шёл проверять замки, что было логично. Теперь я вроде бы никуда не выхожу. А замки, значит, всё равно проверяю. Потому что есть тут одно «но». Я-то не выхожу. Но ко мне же приходят снаружи.
Каждое утро, хотя, может быть, и не каждое, может быть, через утро, ко мне приходит Надька со второго этажа. Она старуха. Ей, наверно, больше семидесяти лет, и у неё крупно трясутся руки. Гораздо сильнее, чем у меня, трясутся. Она приходит и звонит. И говорит сквозь закрытую дверь:
— Открой.
Так она стоит, звонит и говорит одновременно. Я подхожу к двери. Смотрю в глазок. Долго смотрю и тщательно, наводя резкость. Да, это она, больше некому. И она слышит, что внутри квартиры происходят движения и от них происходят шорохи и шумы.
— Ты жив? — говорит она.
— Я жив, — говорю я и отхожу от двери.
Мне не нравится, что Надька со мной на ты.
— Ты не откроешь? — спрашивает она.
И то, что она задаёт вопросы, мне не нравится. На каком, собственно, основании? Я ей не отвечаю, принципиально, и она временно уходит. Так у меня начинается утро. Если она не настаивает и не вынуждает меня открыть. Иногда она вынуждает. То есть она настаивает. Нажимает на кнопку звонка и звонит молча. Звонит и ничего не говорит там, за дверью. Звонит, пока я не открою. А когда я открываю ей дверь, она проходит на кухню. В таких случаях она держит в руках сумку. Всегда одну и ту же. И она проходит с этой сумкой на кухню. А я ухожу в комнату. Ухожу, думая, что надо как-нибудь отключить звонок и что вряд ли я смогу это сделать, поскольку не представляю даже, как это делается и где. Наверное, где-то возле звонка нужно отсоединить проводок, но звонок высоко. Почти под потолком. Не лезть же мне под потолок. И я сижу в комнате. Сижу, пока Надька не зовёт меня из прихожей.
— Закрой за мной, — говорит она.
Я встаю и иду из комнаты в прихожую, чтобы закрыть за ней дверь на оба замка. А Надька идёт по ступенькам вниз, к себе домой.
После её ухода в кухне обычно появляются вкусные свежие запахи. И еда какая-нибудь горячая обязательно появляется. И я её ем. А поев горячей еды, я засыпаю. Обычно — прямо за столом. Еда теперь действует на меня именно так, положительно. Мне становится хорошо, тепло, появляется приятная тяжесть внутри, и от тяжести я засыпаю. И сплю в любом положении. Хоть сидя, хоть лёжа, хоть стоя. Но стоя спать можно недолго. Потому что стоя обязательно или проснёшься, или упадёшь. Я падал уже несколько раз, падал и разбивался. О выступы и углы квартиры. Потом лежал, и ссадины у меня болели. Поэтому после еды я стараюсь засыпать сидя. Или лёжа. Лучше — сидя. Во-первых, до «лёжа» надо ещё дойти, и где гарантия, что идя, не заснёшь стоя и не упадёшь. А во-вторых, лёжа можно проспать весь день до самой ночи. И ночь тоже проспать, до утра. А когда столько времени беспрерывно спишь, просыпаться очень трудно. Я иногда с таким трудом просыпаюсь! Бывает, чувствую уже, что всё, на этот раз проснуться не получится. Не хватит сил. Но пока их хватает. Пока я, сколько бы ни спал, всё равно просыпаюсь.
А насчёт Надьки у меня есть подозрения. Вернее, подозрения у меня насчёт ключей. Мне кажется, что у неё есть ключи от моей квартиры. Только она в этом не сознаётся. Я у неё не спрашиваю, а она, пользуясь этим, скрывает от меня, что у неё есть ключи. Нет, утверждать я ничего не могу. Как я могу утверждать, если достоверно мне это не известно — есть или нету. Я могу только предполагать. И предполагаю. Предполагаю, что есть. На каком основании предполагаю? Ну, кое-какие основания всегда найдутся. Кое-какие основания для предположений всегда есть, всегда существуют. Например, разменом квартиры в семьдесят втором году занималась она. А я им не занимался. И она отдала мне всего два комплекта ключей. Разве бывает, что у людей всего два комплекта ключей? Мне кажется, не бывает. Мне кажется, что у людей обычно бывает три комплекта ключей, не меньше. Потому что с каждым замком продаётся по три ключа. Это установленный минимум. А она отдала мне только по два. Значит, вполне могла один комплект оставить себе, и значит, он теперь у неё есть. А не пользуется Надька им из-за приличия. Желая эти самые приличия соблюсти до конца своих дней.
А меня приличия не интересуют. Особенно теперь и здесь. В моей отдельной квартире, запертой изнутри. И дверь я могу открывать, а могу и не открывать. По собственному желанию.
Раньше я вынужден был открывать дверь. В некоторых случаях. Почтальонше был вынужден открывать. Она приносила мне на дом пенсию. Один раз в месяц. Но теперь она мне её не приносит. То есть она пыталась какое-то время её приносить, а потом перестала. И пытаться перестала, и приносить. Потому что я перестал отпирать ей дверь. Видел в глазок, что это почтальонша, и не впускал её. Поскольку она мне надоела. И поскольку почтальонша должна приносить письма и газеты, а не одну пенсию раз в месяц. А раз она приносит одну только пенсию, а писем и газет не приносит никогда, то какая же это почтальонша.
И теперь я даже и не знаю, кто вместо меня получает мою пенсию. Может быть, Надька и получает. Скорее всего, Надька. Как-нибудь уговорив почтальоншу, сказав ей, что я тяжело больной или сумасшедший. И может быть, получив нужную справку от врача. Зачем-то же приходил ко мне врач. Как-то раз. И он приходил не один, одного я бы его не впустил, он приходил с Надькой. Поэтому она и покупает мне продукты, и готовит разные первые и вторые блюда. Это всё легко объясняет. А иначе это объяснить нельзя никак. Иначе чего б ей этим заниматься? Что у неё, своих важных дел нет? Свои важные дела есть у всех. Даже у таких старух, как Надька. Тем более, если у них есть мужья. Или дети и внуки. У Надьки, правда, их нет. Насколько я знаю. Но это неважно. Дела у неё всё равно есть. Наверно. Должны быть.
Если бы у меня была жена или внуки, или я был бы женщиной, у меня тоже были бы какие-нибудь свои важные дела. А так как у меня, слава Богу, нет никого, и я, слава Богу, не женщина, у меня и дел никаких нет. И живу я по своему усмотрению. В своё полное, так сказать, ежедневное удовольствие.
Почему или из-за чего мы развелись с женой, я не помню. Теперь уже не помню, за давностью лет. Я могу, наверно, напрячь свою память и что-нибудь вспомнить. Детали, причины и следствия. Но я не хочу без толку вспоминать прожитое. Я живу в настоящем и нигде больше не живу. Развелись и развелись. Видимо, из-за чего-то серьёзного. Поскольку из-за пустяков люди не разводятся. Наверно, я её разлюбил и полюбил другую. И стал ей изменять. В семьдесят втором году я был ещё молодой мужчина, полный физических сил и разных противоречивых чувств. В семьдесят втором мне было всего… да, всего сорок пять лет. В сорок пять лет многие мужчины уже не любят своих жён. И я тоже свою разлюбил. Или она меня разлюбила. И стала мне изменять. И мы друг друга возненавидели. Да, что было, то было — возненавидели. Я её, а она меня. И дело, помню, дошло до парткома. Я никогда не вспоминаю это, я просто это помню. Говорят, плохое быстро забывается. А хорошее человек помнит долго. А по-моему, забывается всё. А запоминается всё, что угодно. Мне запомнились эти слова «дело дошло до парткома.» Думаю, поэтому я запомнил и сам этот партком. Я даже помню, что в повестке дня наш вопрос обозначался как «Прочее». А парторг Мачула, он на нас кричал.
— Кто вам дал право разрушать изнутри семью — ячейку общества? — кричал парторг. И: — Мы вам этого позволить не дадим во имя светлого будущего. Потому что советская семья принадлежит народу.
И кто-то этим его словам аплодировал. Да все, наверно, аплодировали. Может только, кроме меня и жены. Мы стояли в ожидании оргвыводов и последствий, думая «как бы они не довели нас этим всем фарсом и пафосом до инфаркта». А потом всё равно развелись. Парткому наперекор и вопреки. Мол, никто нам не может запретить по обоюдному согласию разводиться, мы свободные советские люди. Да к тому же ненавидим друг друга вместо того, чтоб любить. А оргвыводы, они по-любому неизбежны. Так же как и последствия.
И квартиру мы тогда разменяли. После и вследствие развода. Сколько-то, правда, пожили в старой квартире, занимая по отдельной комнате и деля друг с другом места общего пользования. Жена искала разные варианты обмена, чтобы и ей хорошо было, и меня устраивало, на биржу левую к магазину «Тысяча мелочей» ходила по выходным, а потом оказалось, что в нашем подъезде сосед и соседка — со второго и третьего этажа — внезапно полюбили друг друга и хотят обменять две свои однокомнатные квартиры на одну двухкомнатную улучшенной планировки, чтобы строить новую счастливую семью со всеми удобствами и с комфортом. И жена произвела размен с ними. И машину грузовую, чтобы мебель перевозить, нанимать не пришлось. Только мужиков.
А замки мне сегодня не нравятся. Они вроде заперты. Но мне не нравятся. Особенно нижний. И я думаю, что надо замки перезакрыть. То есть открыть их, а потом снова закрыть. Я оборачиваюсь и на полочке ключей не обнаруживаю. Для верности я ощупываю поверхность полочки. Ключей на месте нет.
Куда я их положил? Нет, этого я никогда не вспомню, раз их нет на полочке. Я и пытаться не стану. Поэтому ключи нужно просто найти. Искать их и в конце концов найти. Обшарив квартиру сантиметр за сантиметром. Кто ищет, тот всегда найдёт.
В какой-то момент мне показалось, что ключи я ищу уже давно. Очень давно. Возможно, не один день. И не два. Но результат всё равно не достигнут. Ключи не нашлись. Я подумал: «Может быть, их утащила кошка? За нею водятся такие безобразия». И я начал всерьёз подозревать кошку, но вовремя сообразил, что кошка умерла лет пять назад. Или лет десять. И конечно, никакого отношения к потерявшимся ключам она иметь по этой причине не могла и не имела. Если бы она не умерла, она вполне могла бы затащить куда-нибудь ключи. Ей это ничего не составляло. От неё такой штуки вполне можно было ожидать. А так, конечно, не могла она. И никто не мог. Но ключи тем не менее исчезли. И я искал их везде. Вплоть до карманов. В своих пальто и костюмах, которые не надевал на себя уж не знаю сколько зим и лет. Мне незачем надевать костюмы и пальто. Я же никуда не хожу, а дома можно и без костюма ходить. И уж тем более без пальто можно ходить дома.
Вообще-то, я мог бы куда-нибудь ходить. Во двор точно мог бы, без усилий и труда. Только зачем мне двор? Что там делать? Слушать этих старых дураков? Так мне и отсюда их слышно. С третьего этажа. У них у всех плохой старческий слух. Поэтому они не разговаривают между собой, а орут. И я всё слышу. Хотя лучше бы не слышал. Потому что орут они чёрт-те что. Пенсия, президент, воры, евреи, цены, врачи. И не надоест им каждый день орать об одном и том же. Правда, иногда бывает, они орут «выборы». Это они орут громче всего. Размахивая руками, орут. А было, я наблюдал из окна кухни, как они, крича «выборы», дрались. Старые, дурные, больные, а дрались. А может, потому и дрались, что больные. И старые.
И вот, чтобы с ними не разговаривать и не встречаться, я не выхожу во двор и вообще никуда не выхожу. Дома мне лучше. И температура дома более постоянная. Не так, как на улице — то жар, то холод. На меня перепады температуры отрицательно воздействуют. Мне от них нехорошо делается, у меня от них давление. Дома тоже есть перепады, но они не такие резкие. Во всяком случае, дома я всегда могу ходить без пальто. У меня есть махровый халат дома — хороший, гэдээровский. Или югославский. И я в нём хожу. И чувствую себя прекрасно. В нём мне не холодно. А жарко летом иногда бывает. Да, это бывает. Но тогда я просто снимаю халат и остаюсь в нижнем белье. Вот как сейчас.
Когда я хожу по квартире в белье, на улице всегда лето. Это примета верная. Это понятно. Непонятно другое. Куда ключи подевались. Вот что непонятно.
В конце концов, думаю я, должна быть в доме и вторая связка ключей. Жена же дала мне в семьдесят втором году две связки, а не одну. А я не терял ключи от квартиры. Или терял? Если терял, это плохо. Это говорит о том, что у меня осталась одна связка ключей, и я ею пользовался всё это время. А найти одну-единственную связку труднее, чем найти одну связку из двух. Или, возможно, после вселения я поменял в двери замки? Ну и что? Ключи всё равно должны быть где-то здесь, внутри. От одних замков, от других — какая разница.
Разница только в том, что тогда у Надьки ключей от новых замков нет. Но это только к лучшему. Я вообще не понимаю, почему у чужой мне старухи должны быть ключи от моей квартиры. Что они у неё делают? И кто знает, как она ими может распорядиться. В случае чего. У меня в квартире всё-таки много есть всякого… Вот, журналы, книги. Картины. Когда-то журналы и книги я читал, а картины мне дарили друзья. Они писали эти картины и дарили мне на дни рождения, потому что они были художниками и были моими друзьями. И я всегда вставлял их картины в рамки и вешал на стену. И теперь вся стена в моей комнате завешена картинами. Это хорошие картины. Потому что мои друзья были хорошими, настоящими художниками, хотя и неизвестными. Так у них сложилась жизнь в искусстве. Художниками они стать успели, а известными не успели. Может, и хотели, но не успели. Стать и художниками, и известными — это же редко кому удаётся. Чаще или то, или другое, отдельно. Надо бы вытереть чем-нибудь с картин пыль. Но я не знаю. Смогу я это сделать или не смогу. А друзья мои умерли. Некоторые давно, а один умер недавно. То есть не так недавно, как это бывает — вчера, допустим, или позавчера. Но и не десять лет назад, как кошка. А каких-нибудь три года. Да, я думаю, три года назад он умер. Правда, я узнал об этом позже. С большим опозданием. Потому что мне некому было сообщить. И пока до меня докатилось это плохое известие, прошло много времени.
А сколько времени прошло с тех пор, как я споткнулся здесь, в прихожей, я не знаю. Я, наверно, уснул. Увидел, что лежу, и уснул. Чтобы уж зря не лежать. Но я проснулся. Прекрасно помня, почему я лежу.
Я искал ключи. И они в конце концов обнаружились. Там же, где обычно. Примерно там же. Они лежали себе, а я их не видел. Если бы они лежали точно на своём месте, на полочке, я бы их обязательно увидел. Но они лежали рядом с полочкой, на трюмо. Как они туда попали и как можно было их не заметить, я понять не могу. Они во всех трёх зеркалах отражались. То есть, когда подходишь, видны ключи, лежащие на столике трюмо, и три их отражения. А я не заметил ни ключей, ни отражений.
Я ещё раз проверил верхний замок, проверил нижний. И ключ вставил в нижний, и повернул его два раза в одну сторону, открывая, а потом один раз в другую. Закрыв замок не на два оборота, а всего только на один. Зато снаружи теперь нельзя вставить другой ключ, если он у кого-то есть. Потому что мой ключ, вставленный изнутри, теперь не выпадет, когда его будут проталкивать. Он зацепится своей бородкой за выступы замка. И всё. Очень просто.
Я оставил ключ в замке и пошёл в комнату. Но споткнулся.
— Он вставил изнутри ключ, — сказали за дверью.
Отсюда мне слышно всё, что говорят за дверью.
Я лежу на полу и не сплю. Я смотрю на обои. Оказывается, рисунок обоев в моей прихожей, если смотреть на него с полу, состоит совсем не из бутонов с узорами, он состоит из обезьяньих лиц, из лиц грустной смешной обезьяны. Как жалко — прожил в квартире столько лет и никогда не обращал на это внимания. Видно, я никогда не разглядывал обои лёжа на боку в прихожей. А сейчас я делаю как раз это. Разглядываю. Вернее, я всё уже разглядел и сейчас смотрю грустной смешной обезьяне в глаза. Смотрю и слышу, как на лестничной клетке переговариваются люди. Эта дверь всегда пропускала звуки внутрь квартиры. И вечно я знал обо всём, что делается на лестнице и что знать мне совершенно не интересно. Идут ли вверх по ступенькам соседи или бегут вниз дети — всё всегда было слышно и мешало мне спокойно в тишине жить. А сейчас вот слышны эти голоса. Голоса людей, пришедших отпереть мою дверь и обеспокоить меня, чтобы я не смотрел в глаза грустной смешной обезьяне.
Но им это не удастся. Я всё сделал правильно.
Кладбище балалаек
(нелюбовный роман)
Эпиграф
Моль — ненавижу!
Автор
Город медленно выползал из ночи, а ночь точно так же, без спешки, оставляла город. Или ещё не оставляла. А только собиралась и готовилась его оставить.
Скучно перемигивались светофоры, то прокалывая темноту, то разрывая её в клочки и обрывки и добавляя тем самым света к незаметному ещё свечению утра. Им чуть помогали редкие неоновые вывески и тусклые, совсем редкие фонари на ржавых шатких столбах. Дырявили фарами трогавшуюся из города ночь и автомобили, а также троллейбусы и трамваи, везущие в своих салонах жёлтый электрический свет.
Сонные люди заполняли собой эти транспортные средства передвижения в пространстве и передвигались с их помощью во времени — из ночи в утро, из вчера в завтра через ещё не наступившее как надо сегодня. И чем будет отличаться сегодня и завтра от вчера, никто из них толком не знает. Но многие надеются или молятся своим богам, чтобы отличались они не слишком и хотя бы не были заметно хуже. Я, во всяком случае, надеюсь именно на это. Потому что уходящая ночь была далеко не лучшей ночью в моей жизни. И если даже учесть, что большинство моих ночей были не лучшими, то эта и среди них не лучшая, а какими будут следующие ночи — я не представляю и не загадываю (хотя вру, конечно — загадываю).
И выхожу из ночи, которой вот-вот временно не станет, выхожу вместе с другими трудящимися горожанами, ни о чём больше не думая, а лишь радуясь, что максимум через десять минут буду дома. То есть не дома, раз я из дома иду, но у себя, взаперти, на своей личной жилплощади. Что в наших и конкретно в моих условиях, видимо, и есть дом. Только второй. Но кто сказал, что дом бывает один, и он только там, где ты дома? Дом — это дом, помещение, какое-то количество стен, пол, потолок, дверь, замок, и ключ от замка — у тебя в кармане.
А выходят из ночи в день далеко не все трудящиеся горожане. Многие движутся в обратном, строго противоположном направлении. Они отжили свою бурную трудовую ночь и теперь едут, возвращаясь домой — чтобы переждать безынтересный с точки зрения их жизненной философии день, отдав и посвятив его отдыху, а вернее, сну (забвению), то есть фактически не посвятив ничему. А вечером, когда ночь снова подойдёт к городу, обступит его и окружит, они проснутся, придут в себя, почистят зубы трёхцветной зубною пастой и, может быть, примут душ, чтобы взбодрить свои сонные тела и души, ещё не привыкшие жить наоборот, не при свете дня, а в темноте ночи. Они влезут ногами в холодную ванну, откроют на полную краны и подумают, что нет для души ничего лучше струй текущей воды. Больше всего водопоклонников как раз среди ночных людей. Сторожей, проституток, ларёчников. Тех же самых таксистов, предпочитающих работать с вечера до утра. Да мало ли на свете чернорабочих тёмного времени суток, времени которое называется коротко, но сочно — ночь, — времени, когда большинство из нас рождается, спит и умирает.
Обозвал слово «ночь» сочным и вспомнил не к месту цитату из одного покойного члена союза журналистов с полупиратской фамилией Флинк. «Русское народное сочное слово говно», — написал этот уважаемый покойный член когда-то.
А «ночь», между прочим, женского рода. И это, наверно, не зря и не случайно. День — время мужское, ночь принадлежит женщинам. И не женщинам определённого поведения или определённых занятий, а всем женщинам, женщинам как классу. Ночью наступает их власть. Их час. Их сила.
Но сейчас они нас не интересуют. Ни женщины в широком понимании, ни эти, движущиеся из ночи посильного труда в день пассивного отдыха. Они едут нам навстречу, проходят перед нашими сонными взглядами и исчезают, растворяясь в преддверии утра без осадка. И вполне возможно, что мы никогда больше не встретим их, никогда не увидим и уж совершенно точно — никогда не познакомимся с ними поближе и покороче. И жалеть об этом нечего. Поскольку — ну что может дать тесное знакомство ночных людей с дневными? Ничего путного и полезного оно дать не может. Причём обеим незаинтересованным сторонам. Просто потому, что жизнь днём не имеет ничего общего с жизнью ночью.
Да, так вот речь не о них. Хотя и о них, конечно, тоже. Так всегда получается, что говоря об одних людях, обязательно говоришь и о других. Даже когда говоришь вроде бы только о себе — всегда говоришь и ещё о ком-то. С тобою связанном. А он связан с кем-то ещё. И так далее, и так далее, и так далее. И связи эти, продолжаясь и длясь, или возвращаются к тебе же, или теряются в человеческих массах, уходя в ничто и в никуда. Уходя в несвободу. Поскольку связи — они связывают, и чем связей больше, тем меньше степеней свободы, и гордятся своими многочисленными связями только дураки.
Но что делать? Связи — категория неизбежная. Приходится жить посреди людей. В их тесном навязчивом окружении. В их присутствии. И если присутствие одних воспринимается легко или незаметно, если других ты принимаешь как нечто неизбежное и миришься с ними, то присутствие третьих для тебя невыносимо и нежелательно, поскольку они уже одним тем, что есть, превращают твою обычную рядовую жизнь в кошмар на улице Вязов или в иной какой-либо устойчивый ужас.
И женщина Лёля — многократная моя жена и подруга — именно из этих, нежелательных и невыносимых людей. Из людей, превращающих в кошмар мою личную жизнь и не только её одну. Я понимаю, что Лёля так устроена, так задумана при сотворении. А понимание всегда в какой-то мере утешает на некоторое время. Да и те, к чьим жизням Лёля приложила руку, тоже действуют на мою психику не столько отрицательно, сколько положительно. Живым примером. Они же все и всегда обретались где-то рядом. И путались у меня под ногами. Считая, что это я путаюсь под ногами у них. Кто из нас прав, неясно. Поскольку правда у каждого своя, индивидуальная. Так же как у каждого свой собственный бог. По очень приблизительному подобию которого человек и создан. Именно поэтому все люди разные. Хотя в целом и одинаковые. Настолько, что запоминаются далеко не с первого взгляда. Даже актёры кино, даже теледикторы, даже спикеры. А уж те, кто встретился тебе на улице или в каком-либо общественном людном месте, — они вообще уходят из памяти и из жизни сразу, как только уходят из поля зрения. И сколько их ни рассматривай, едучи ранним утром с левого берега на правый, ничего это не даст. Они обязательно ускользнут после пяти минут совместной езды, ступив на асфальт в плоском центре города, и канут в темноте, всё ещё густой, хотя уже и тронутой легким тлением — то есть не тлением, конечно, тронутой, а рассветом.
А я проеду чуть дальше, вверх, от центра к востоку, и выйду посреди горы, и буду идти один до дома ещё целых пять минут, отдельно от них от всех, навязчиво вспоминая, что вот снова Лёля меня вытеснила, как вода вытесняет тело, в неё погружённое. Лёля, она похожа на среду обитания. Тем похожа, что, как любая среда, или выталкивает из себя постороннее тело, или поглощает его, засасывая. Лёля меня то выталкивала, то поглощала, и эта многолетняя канитель давно моему постороннему телу надоела, а винить в том, что я опять вытеснен из привычной среды за её пределы, мне, собственно, и некого. Не надо было до этого доводить и допускать. Давно я уже чувствовал, что подходит срок, что он подпирает, что если не уйти на какое-то время самому, меня вытеснят и — выставят. А когда выставляют, возвращаться на круги своя бывает гораздо труднее. Я это знаю. Так как выставляли меня не раз, а многажды. Правда, давно.
Уже несколько лет я уходил чуть раньше, с опережением. Называя это упреждающим, превентивным, уходом. Я поступал, как мудрый библейский Иов — удаляясь от зла. И зло теряло точку приложения, точку опоры, и выходило в воздух, как пар выходил в свисток неуклюжих тупых паровозов. Конечно, выходило зло не навсегда и не целиком, и было понятно, что оно снова когда-нибудь скопится в Лёле, но до этого можно будет вернуться и как-то пожить — злом не замеченным и не задетым.
А сейчас я сплоховал, дал маху. Погряз в себе, в своих, навалившихся как-то разом, делах и касающихся меня одного заботах. Заботах — может, это и громко сказано, но в мелочах, требующих времени и внимания, и хлопот — погряз. Я имею в виду починку зубов — девяти штук, — покупку новых штанов, всегда длинных и широких, получение нового паспорта новой страны и, неизвестно зачем, без всяких на то причин и поводов, загранпаспорта.
И я стал лихорадочно разгребать эти так называемые дела и от себя их отталкивать — и всё это на фоне перепродажи и перепокупки нашей газетки. С нами или без нас продается газетка, никто не знал — и это всех держало на взводе и на нервах, в подвешенном состоянии полёта вокруг своей оси. Ну, и не уделил я во всём этом повседневном липком быту должного внимания Лёле. Тому немаловажному обстоятельству, что она бурлит и вскипает, и крышка у неё приподнимается, хотя внешне Лёля выглядела спокойнее, чем всегда и обычно. Что уже знак недобрый. Но мне было не до её знаков. И не до бьющих через её глухое спокойствие и через край отрицательно заряженных эмоций. Вот и получил своё. И больше, чем заслужил.
Я-то вообще уверен, что не заслужил ничего подобного. И такого ко мне волнообразного отношения уж точно не заслужил. Я понимаю, что от любви до ненависти всего один шаг (интересно, а от ненависти до любви, сколько?), но проживать свою жизнь, болтаясь в межшаговом, так сказать, пространстве, и даже не между любовью и ненавистью, а между тем, что тебя то терпят, то не терпят…
Нет, надо признать, что когда плохо, когда случаются похороны или ещё что, какое-нибудь горе луковое, без Лёли не обойтись. Только не может же быть плохо всегда. Иногда всё же бывают дни и минуты, когда не плохо, а более или менее хорошо. И тогда жить с ней, находиться в одном замкнутом малогабаритном пространстве и в одном, тоже, в общем, замкнутом времени — невыносимо.
Но я всё равно не хочу её взять и убить. То есть я хочу. Но хочу так, умозрительно, не всерьёз, почти понарошку, платонически. Да, иногда я думаю об этом, думаю, что убить Лёлю было бы неплохим выходом. Для меня, для неё, для некоторых других людей. Многие, узнав о Лёлиной безвременной смерти, погоревав и отскорбев положенное, вздохнули бы с облегчением. Ведь они освободились бы от Лёли, от которой иначе освободиться невозможно. Невозможно, потому что она никого не держит и никого не заманивает в свои сети, все сами стремятся к ней прибиться, отдать ей свою свободу, свою какую-никакую индивидуальность и обособленность, свою любовь, душу, тело, и все остальные потроха — тоже вручить. На каком-то этапе Лёля бывает очень притягательна. Для самых разных, неожиданных особей. Как мужского, так и женского пола. Нет, к однополой физической любви Лёля не склонна и непричастна. Женщины её любят в лучшем и высшем смысле этого слова, но так беззаветно и беззастенчиво, что лучше бы они с ней время от времени спали. Есть что-то неестественное в женской любви и преданности. Женщины не должны любить себе подобных. Они должны их недолюбливать. Должны находиться в состоянии соперничества — пусть несознательного, зато инстинктивного. Так им назначила природа. А природа, она, как известно, мать и многого не терпит. И лучше против природы не ходить, даже с рогатиной. Потому что тех, кто против природы ходит, она превращает в пустоту. Которой тоже не терпит. И заполняет. И восстанавливает естественным образом свои (а не наши) связи, но уже помимо нас, без нас. И если без человеческих связей жить всё же как-то можно, то вне природных нам ничего не остаётся, как перестать быть частью природы, вернее, частью живой природы — то есть нам ничего не остаётся, разве что спокойно умереть.
Но никому не хочется умирать. Кроме больных, склонных к суицидальным порывам по нездоровью. Тем более не хочется умирать безвременно. А умерщвлять желающие, конечно, есть. Этих желающих хоть отбавляй, хоть сажай пожизненно, хоть составляй из них отдельный город, административную единицу, на каком-нибудь отшибе, у какого-нибудь чёрта на куличках или моря. И я, выходит, один из них, из желающих. Да, желание отнять жизнь у Лёли во мне теплится подспудно. Пока не возгораясь. Но вдруг это только пока? И что будет после того, как пока перестанет быть пока?
Искать ответ на эти вопросы — пустая трата времени, то есть медленное, постепенное лишение себя жизни. С другой стороны, а что не пустая трата? Жизнь — категория уходящая. Ты чистишь зубы, а она именно в это время уходит. Так чистить зубы хотя бы полезно. А взять, допустим, бритьё — занятие совершенно бесполезное. Всё равно сбритое отрастёт, став ещё гуще. А время на этот процесс теряется. И мне всегда жалко без толку терять время. А когда Лёля на мой вопрос «ты куда?» отвечает «в парикмахерскую, побрить ноги», мне вообще становится плохо. Потому что объяснить Лёле что-либо насчёт пустой траты времени, невозможно в принципе. Она уверена — время дано человеку, чтобы его тратить. Тратить так, как хочется, иначе оно всё равно уйдёт, без твоего участия, а это обидно и непрактично. Мы и так от времени целиком зависим и находимся у времени в плену, у времени за решёткой. Зачем же ещё во времени томиться, как консервы в томате или в собственном соку?
Конечно, этим Лёлиным принципам и жизненным кредо противопоставить что-либо существенное нелегко. Как отличить пустую трату от не пустой? Кто это может оценить? Видимо, только ты сам, и то постфактум и, как теперь говорят, оптом. Когда всё время жизни пройдёт и когда останется от него небольшой, совершенно незначительный остаток, только тогда ты сможешь определить — зря ты тратил своё время или не зря, впустую или нет. И если зря, то всё равно ты не захочешь себе в этом признаться, потому что признаться в этом, означает признаться в том, что жизнь твоя, пройдя, не состоялась, не сбылась и не удалась, и её могло не быть вовсе. А значит, ты спокойно мог бы не рождаться и не беспокоить маму, акушеров, воспитателей, учителей и так далее, далее и далее.
Вот ещё один вопрос, на который ответить нельзя, сколько ни дуйся и ни суши мозги. Мог ты не родиться? Или не мог? И что было бы, если бы тебя не было? Не с какого-то момента, с момента твоего естественного или искусственного ухода из жизни, а никогда. Изменился бы, громко говоря, мир от этого твоего нерождения, твоего отсутствия и неучастия или не заметил бы его? И кому бы портила кровь Лёля, с кем была бы все эти годы, кого выставляла и возвращала? А мама, отец? Чьими родителями были бы они? Родителями другого сына? Или дочери? Или ты бы не родился потому, что не встретились они? И их невстреча стала бы единственной, но вполне достаточной причиной твоего нерождения. А могли не встретиться и их родители, твои бабушки и дедушки, и родители бабушек и дедушек — тоже.
Нет, так можно далеко зайти и дойти до Адама и Евы. Которые не встретиться не имели ни малейшего шанса. Поэтому они нам и не интересны. У них не было выбора. У них не было даже права выбора. Несчастные, подневольные наши пращуры. Скорее всего, они даже не любили друг друга. А сошлись, как говорится, от одиночества вдвоём, на безрыбье. И на безрыбье родили детей. А давно доказано, что если родить детей без любви, жизни им никакой не будет, и лучше бы им не рождаться совсем. Их дети это и доказали. Первыми.
Не знаю как кто, а я, если бы не родился и не жил, больше всего жалел бы обо всём первом, о том, что случилось и произошло со мной впервые. Второй и все последующие разы можно и подарить, забыть, и пренебречь ими можно, не сожалея. А первые — жалко.
Я видел, как наш молодой кот Тишка выскочил по привычке на балкон и осел. Всеми четырьмя лапами и животом, и хвостом — в снег. И снег, первый в его жизни снег, ошеломил кота. Своей белизной и своим обжигающим холодом, холодом, которого никак невозможно было ожидать от такой белой и пушистой субстанции.
Меня тоже ошеломляли первые впечатления жизни — и в детстве, и в юности. Потом, правда, перестали. Даже первые. Но это, видимо, оттого, что их, первых впечатлений, фактически не осталось. И что бы ни случилось, что бы ни произошло, подумав, я всегда приходил к безрадостному умозаключению, что если не это в точности, то нечто похожее и подобное со мной уже случалось, происходило. Чуть не так, чуть не там, чуть не то. Но происходило. Другое дело, начало — старт и разгон жизни.
Грохот деревянных колёс деревянной коляски. Коляска движется поперёк досок щелястого бурого пола. И невозможно понять, что это за грохот, откуда этот дробный ритм, в котором подпрыгивает коляска и трясутся щёки. И требование — криком и плачем — катать коляску, катать ещё. И слушать, и не понимать снова и снова — что же это так жутко дрожит, стучит и грохочет? И куда исчезает шум и дрожь, когда коляска едет не поперёк досок, а вдоль?
И вид, открывшийся вдруг с дороги на нечто невозможно огромное, неохватное ни взглядом, ни умом, лежащее где-то далеко внизу, в синем, бликующем на солнце, тумане. И стоило увидеть это, как сразу забылись и отступили муки, которые, казалось, не забудутся никогда. Потому уже не забудутся, что никогда не прекратятся. Продвижение горячего, воняющего бензином ЗИМа-такси по извилистой дороге — потом, через много лет, выяснилось, что это была старая Крымская дорога, а новую тогда ещё не построили — вправо, влево, вверх, верх, и опять поворот за поворотом, зигзаг за зигзагом. И я всё чаще мычу плотно закрытым ртом «ма-а-а-а» — чтобы остановили машину, — и мучительно блюю через открытую дверь, наклоняясь к каменистой земле лицом, не ступая на неё, не выходя, через порог. И как только машина снова трогается, как только она набирает скорость и заходит на очередной вираж, мне опять становится плохо и дурно, и я сквозь тошноту ною, прошу, умоляю: «Мама, давай выйдем, я пешком пойду, ничего, что далеко, ничего, что в гору, я пойду, только давай выйдем, выйдем из этой чёрной машины».
И ощущение пальцами девичьего соска. Податливого, в пупырышках. И мягкой груди. У шестнадцатилетней девочки была мягкая грудь. И вся она была мягкая. Не толстая и не полная. А мягкая. Мягкие губы, мягкий взгляд сквозь очки, мягкая походка, мягкий голос, мягкое имя Оля. Всё мягкое. И твёрдое, чуть ли не злое «нет», когда я позволял себе лишнее или то, что казалось ей лишним. Она не говорила общепринятое «не надо», она говорила «нет». И возвращала мою ладонь к себе на грудь. Это по её понятиям было можно. И наверное, наверняка, ей нравилось, доставляло удовольствие…
Я жалею даже о другом моём впечатлении, тоже, к слову, впечатлении от груди и тоже первом. После Оли я познакомился с женщиной — как познакомился, уже не помню и, скорее всего, никогда не вспомню — видимо, слишком буднично и необязательно это произошло. Она была старше меня, и у неё в доме рос капризный глупый ребёнок. И она при мне и при свете дня разделась. И сняв бюстгальтер, швырнула его на спинку стула, где он запутался, как в проводах. И я увидел два вялых, болтающихся, свисающих с тела мешочка, похожих на спущенные резиновые шарики со случайно оставшимся в них воздухом. Это было так не похоже на женскую (в моём представлении) грудь, на грудь Оли, что я не запомнил главного — как перестал быть мальчиком. Никаких впечатлений от этого исторического то ли факта, то ли акта у меня не осталось и в ощущениях не сохранилось. Настолько меня поразили эти бесформенные жалкие мешочки. Я всё время о них думал и кожей их чувствовал, они всё время тёрлись о меня и мешали мне сосредоточиться на основном.
Да, мне этих впечатлений — если бы их никогда у меня не было, потому что никогда не было бы меня — было б жалко. А жизнь вообще, я думаю — она бы не изменилась. Ну нашла бы та женщина себе другого пацана, коль уж имела она в себе склонность к партнёрам мальчишеских лет. Ну, возможно, Оля не потащилась за мной и не устроилась бы работать в столовую института, куда я поступил учиться. А она потащилась, за пятьсот километров, несмотря на то, что я её бросил. Заскучал с ней как-то раз, тут же нашёл повод обидеться — и бросил… Да вот, кстати, впервые в жизни я бросил женщину. Но не будь меня, её бросил бы кто-то другой, а я всего лишь не встретил бы её через тридцать лет в магазине — продавщицей и матерью троих детей от трёх разных мужей, и бабушкой стольких же внуков. А в остальном — что бы изменилось? Ничего. Ну разве в каких-то микроскопических, никому не заметных, деталях. Незаметных, потому что какие детали у хаоса? Конечно, незаметные.
При чём здесь хаос? При том, что жизнь в биологическом смысле — это, я думаю, хаос и есть. И передвижения живых существ во времени есть передвижения хаотические, броуновские. И никакие их отклонения и скачки в разные стороны ничего не добавляют и не отнимают, и не изменяют в общем, большом хаосе. Большому хаосу без разницы, из каких мелких хаосов состоять. Ему даже всё равно, сколько их, этих мелких хаосов. Ему главное, чтоб они были — появлялись, видоизменялись, исчезали и снова появлялись. Без круговорота хаосов в природе существование большого хаоса невозможно. Без круговорота хаосов может ненароком наступить гармония, и вот тогда уже всё придёт в полный и окончательный порядок и выстроится в логический ряд по ранжиру или в причинно-следственную шеренгу с равнением направо, и пойдёт своим, раз и навсегда заведённым чередом. И никакая жизнь не останется не замеченной, и никакое нерождение не пройдёт мимо всевидящего ока гармонии, вселенской гармонии, пришедшей на смену большому хаосу, а точнее — вышедшей из его усмирённых и успокоенных чем-то всесильным недр.
И это будет ужасно. Потому что хаос даёт шанс тем, кому при господстве гармонии рассчитывать не на что. Он даёт шанс таким как я. А используем мы его или не используем — это уже наше личное дело, наша личная беда и печаль или, наоборот, наше личное достижение. Использование и неиспользование шансов — это целая наука. Правда, наука эта никого и ничему не может научить. Использовать предоставленный (интересно, кем?) шанс без вмешательства какого-либо случая — практически невозможно. А что такое случай? Наверное, это одно из самых ярких и типичных проявлений хаоса. Который науке не подвластен и изучению не подлежит.
Зато после победы гармонии, если предположить, что капитуляция хаоса будет окончательной, хорошо станет абсолютному большинству. Наконец-то ему станет хорошо, чего не случалось пока никогда. Надо будет только быть в этом абсолютном большинстве, принадлежать ему, ощущать себя неотъемлемой частицей большинства, стремящегося к целому. Я думаю, это ощущение будет похоже на ощущение себя неотъемлемой частью народа, своего народа. Даётся это чувство не всем и не каждому. Кто-то наделяется им вместе с рождением в качестве бесплатного приложения к жизни, кто-то приобретает его в процессе правильного патриотического воспитания в самом нежном детстве, а кто-то бывает его напрочь лишён, и до самого своего конца так и не суждено ему узнать — что это за чувство такое высокое.
Вот мне, по-видимому, не суждено. Ни от рождения, ни от воспитания. Меня воспитывали вне этих патриотических штук, предпочитая им реальность без комментариев и без прикрас — мол, вот тебе голые факты и они таковы: родился ты в Москве, живёшь на Украине, культура у тебя, если есть, то русская, национальность, уж извини, еврей без никаких примесей и без всякой экзотики. Расти во всём этом большой, не будь лапшой и, кем себя сам почувствуешь, тем и вырастешь, тем и станешь. И я вырос и стал никем. Никем себя не почувствовал. Ни русским, ни украинцем, ни евреем. Слегка перефразировать классика, и получится «я — только я, не что иное». Звучит не слишком убедительно и не слишком скромно, зато более или менее правдоподобно, если не выискивать в словах того, чего в них нет. Ну так получилось. Кто в этом виноват, теперь значения не имеет. Родители мои или я сам, или распавшийся на запчасти великий, могучий и нерушимый Советский Союз. Значение если имеет, так только то, что я не чувствую себя частью ни одного народа, и ни один народ не чувствует меня своей частью. А лучшие представители вышеперечисленных народов, наделённые острым национальным нюхом и чутьём, те сразу чуют, что я не их, что я чужд им и им не близок. Что никакая я не часть. Они при одном только взгляде на меня моментально понимают, что такая часть им не нужна. Не пригодится. И лучше её не замечать, игнорировать всеми фибрами. Мне не замечать их труднее. Они всегда передо мной. Куда ни кинь. И я могу всего лишь делать вид, что не замечаю их. И я делаю этот вид малоубедительно. С переменным успехом. Причём не моим. Конечно, этим видом, этим деланием вида, я нарушаю гармонию, грешу против целостности и сплочённости целых трёх (естественно, великих) народов. Я нарушаю то, чего пока нет и не предвидится, и грешу против того же.
В общем, по мне, так нет и не будет ничего лучше хаоса. Хаос устроен мудро. И самая яркая представительница хаоса в моей окружающей действительности — это Лёля.
Она не просто представительница. Она его полномочный посол. И воспроизводитель. Без таких Лёль хаос мог бы истощиться и прекратить своё существование в обществе. А с Лёлей и ей подобными он постоянно обновляется, пополняется и совершенствуется. Эти люди — вирусоносители хаоса. Они носят его в себе. Поэтому в них столько всего намешано, что не дай Бог каждому. Но распознать людей хаоса — сложно. Нет у них особых примет. И даже к старости жизнь часто не оставляет на их лицах и во всей их внешности никаких знаков, никаких отличительных черт. Потому что время не только хороший лекарь и ещё лучший патологоанатом, оно ко всему этому неплохой маскхалат. И смотришь, бывает, на какого-нибудь благостного старичка, от которого за километр распространяется волна безобидности и интеллигентности, и всякие другие положительные волны вплоть до благости, и уже хочешь написать о нём в газетке нечто восторженное с соплями, а наведёшь о нём и его славном прошлом справки, да покопаешься в человеческих документах эпохи, и окажется этот добрый доктор дед мороз такой фантастической сволочью, таким кровопийцей и ублюдком, что и не поверишь сразу, а поверив, станешь обходить его, немощного, десятой окольной дорогой, чтоб не говорить ему, кривя душой, «здравствуйте», не желать того, чего не желаешь.
Правда, Лёля как-то отличает своих, рождённых из и для хаоса. Сколько-то лет назад, когда мы в какой-то очередной раз с нею развелись по обоюдному и страстному согласию сторон, она сказала:
— Надоело вычитывать идиотов (она тогда литредакторствовала в нашей газетке). Ну как это понимать: «Чернобыльцы, задетые зловещим крылом четвёртого реактора, достойны лучшего»? А это: «В галошах и тюбетейке на голове»? Всё. Хочу замуж за бандита.
И вышла именно за бандита. За самого натурального гангстера и организованного преступника. Хотя на вид это был современный молодой преуспевающий человек, то есть господин. Неясно, в чём преуспевающий, но что преуспевающий и что господин — ясно и видно за версту по машине и манерам. Излишне вежливый, излишне спокойный. Смотрел на Лёлю нежным, возможно, влюблённым взглядом, хотя был существенно её моложе. При знакомстве вполсилы улыбался, называл меня по имени-отчеству, поддерживал, как мог, контакт. А мог он вполне прилично. Даже обнаружил, что ему небезызвестны Кафка, Камю, Курков и кто-то ещё, чуть ли не Хайдеггер. Короче, он мне понравился, и я был рад за Лёлю, рад, что на сей раз она попала в хорошие мужские руки, и всё у неё теперь будет по-другому и хорошо, а не так, как было со мной и, значит, со мной уже ничего, слава Богу, не возобновится никогда. Я даже позволил себе лёгкую издёвку, мол, как же это она так лопухнулась — собиралась за бандита, а вышла за какого-то кандидата филонаук, по совместительству представителя малого и среднего бизнеса?
— Кандидата! — сказала Лёля. — Ну что ты! Он самый настоящий, рафинированный, можно сказать, бандит. О его деятельности Интерпол осведомлён. Он с кабинетом министров встречается ежемесячно, и в самых элитных бандитских кругах — фигура уважаемая, пользующаяся, как говорится, авторитетом.
Тогда я ей не слишком поверил. Решил, что это её обычная шутка ради шутки и фантазии. А поверил, когда она пришла домой ночью, вся в кровище и в синяках, растрёпанная до последнего предела, почти голышом и почти босиком, то есть в колготках, но в одной туфле.
— Они хотели, чтоб я его сдала, — буднично сказала Лёля. — Они меня били и не только. Но я не сдала. Тем более что я понятия не имею, где он и вообще — жив ли.
— Ты не знаешь, жив твой муж или не жив?
— Не знаю, — сказала Лёля. — Я его больше месяца не видела и никаких известий о нём не имею. И сведений тоже не имею.
И в конце концов всё же выяснилось, что в живых его нет. У бандитов жизнь яркая, интересная, но короткая. И всё вернулось — не мог же я оставить Лёлю в таком тяжёлом безвыходном положении. Мы снова пошли в загс. Я вошёл первый, Лёля — за мной. Я потопал по ковру — на предмет моли, — и мы поженились. Служащая нашего районного загса сказала «а, это опять вы» и подсунула нам книгу, в которой положено расписываться, книгу, на четверть заполненную нашими автографами.
Но этот очередной раз был, я уже и не помню, когда. То ли три года назад, то ли четыре-пять. Зато теперь я успешно переживаю совершенно новый очередной раз. В том смысле, что опять она меня выставила. И я, если честно, ещё не знаю, хорошо это для меня или плохо. Я склонен думать, что хорошо. Не зря же я время от времени думал одними и теми же словами одно и то же: «Господи, как надоело, и неужели всё это будет тянуться и продолжаться до смерти? Моей или Лёлиной. Но скорее — моей». Правда, я никогда ничего не говорил Лёле о своём отношении к нашей совместной жизни. Хотел сказать, всё ей сказать. Много раз собирался. Настраивался. Готовил и учил текст. Чтобы один раз отчётливо его произнести и забыть, покончить с этим. Бывало, что я уже входил в комнату к Лёле, собравшись и в полной боевой готовности, входил с окончательным намерением произнести заготовленное, но мне непременно что-нибудь мешало. Какая-нибудь назойливая нахальная моль. И я начинал её хватать и хлопать ладонями, чтобы убить, терял решительное настроение и ничего не произносил. Мне почему-то проще было не произносить. Проще было уйти и переждать какое-то время, а потом как-нибудь незаметно вернуться. Не спрашивая согласия и разрешения. Потому что если спросить разрешения, Лёля ответит — нельзя. Ответит и не заметит своего ответа.
Она и меня самого замечает далеко не всегда, замечает какими-то периодами, не имеющими отношения ни ко мне, ни к ней, ни к нашей бурной, прерывистой, семейной жизни, протекающей по замкнутому кругу, то есть по кругу просто, потому что не замкнутый круг кругом не является. И хорошо, если Лёля замечает меня для любви, но и для ненависти, и для презрения она тоже меня замечает. И для того, чтобы выставить — это само собой, это, можно сказать, святое.
А не говорю я всего того, что хочу сказать, не потому, что я боюсь Лёлю. Или боюсь её потерять. Я уже ничего не боюсь. С одной стороны, вообще ничего, а с другой — ничего, что может произойти со мной из-за Лёли, её присутствия или отсутствия в моей жизни. В моей жизни было уже и присутствие, и отсутствие Лёли, и было неоднократно. До того неоднократно, что у меня развилось стойкое безразличие ко всему, хоть как-то её касающемуся. Как ни крути, а мы умудрились прожить с ней долго, очень долго, и почти всё это «долго» — неординарно, а именно: в полном отсутствии любви, то есть не вообще любви, а взаимной любви. Взаимная любовь у нас была только в самом начале. Год-два. Что у нас было все остальные многие годы — определению не подлежит и не поддаётся. Как это ни печально сознавать.
Впрочем, иногда я теряю свою защитную безразличную форму, и Лёля меня достаёт. Я всегда воспринимаю это как неожиданность. К счастью, потом всё опять само собой устанавливается и уравновешивается, и возвращается на круги своя восвояси. Во мне уравновешивается, а Лёля как раз этой уравновешенности мне и не прощает. Потому что равнодушие — это очень сильное чувство. Женщина прощает мужчине всё — пьянство, измены, безделие, глупость. Не прощает только равнодушия.
Я это знаю, мне говорил об этом друг моей молодости, а ныне главный городской нарколог и психоаналитик с богатым опытом Женя Боловин. А он врать не будет. Он вывел из запоя половину нашего мегаполиса и всякого на своём трудовом веку повидал. И он не устаёт повторять: «Равнодушие — это очень сильное чувство». А я добавлю — и хорошая глухая защита. У меня, например, никакой другой защиты нет. Равнодушие — моя единственная броня. Мой единственный более или менее надёжный щит. Правда, равнодушие не может служить мечом, а щит без меча — это не оружие.
И это я знаю. Но оружие мне и не нужно. Оружие нужно для войны, для нападения. Оружие для защиты — это грубая ложь, шитая белыми нитками, враньё для дураков редкостных и набитых. Оружия для защиты не бывает, как не бывает щитов для нападения. А для меня важно и имеет значение, что я, будучи безоружным, все-таки небеззащитен. Я все-таки защищён. В какой-то степени. Пусть незначительной. Но в значительной не защищён никто.
Да, значит, скорее всего потому, что какая-то защита у меня есть, я и не говорю ничего Лёле, хоть давно созрел и готов сказать. Я боюсь своими словами разрушить свою же защиту. Поскольку слова уже пригодны для нападения и вполне могут сойти за оружие. А когда ты пускаешь оружие — любое оружие — в ход, ты обязательно нападаешь, нападаешь и — открываешься. Это правило без исключения. Я не хочу открываться. Мне лучше уйти в глухую защиту и отойти. На заранее подготовленные позиции.
Хотя никакие они не подготовленные и не позиции.
Я, мелко трясясь в этой тесной, пропахшей бензином маршрутке, даже не знаю, что там у меня творится, в моей, выражаясь красиво, студии, а если проще, в моей малосемейной квартире всеобщей площадью двадцать один метр квадратный. Я некоторыми ухищрениями, против всех советских законов, сохранил её когда-то за собой, не задумываясь, зачем это делаю. Или думая, мельком и подсознательно, что квартира не помешает и пригодится моим будущим детям. Но довольно скоро выяснилось, что квартира эта нужна ещё мне самому, и что действуя на автопилоте подсознания, я действовал вполне разумно. И ухищрялся не напрасно.
Я давно там не был, в своей так называемой квартире, хотя работаю рядом, в пределах прямой видимости. И холодильник там отключён. И пыли, наверное, столько, что ни войти, ни выйти и тем более не продохнуть, и моль ходит пешком по стенам и сидит парами на потолке и полу, беззастенчиво размножаясь. Но там тихо и никого нет, и стоит низкий диван-лежанка. Если лечь на него лицом вверх, будет виден потолок, серый всё от той же многолетней пыли и потрескавшийся от времени, зато притягивающий взгляд и внимание. Потолок, если в него уставиться и долго смотреть — завораживает и порождает отсутствие каких бы то ни было мыслей. Именно это отсутствие мне и нужно, именно оно сейчас необходимо. Только взбрызнуть жилплощадь какой-нибудь гадостью, «Антимолью» — там, на подоконнике, стоит, кажется, флакон — и можно как-нибудь жить. Переждать. Расслабиться.
В этом моём малосемейном доме не только моя квартира в таком состоянии стоит пустая. В последние годы квартиры стали постепенно, но довольно быстро пустеть. А их жильцы куда-то исчезать. Это общее явление, касающееся всех домов прежней типовой постройки. Раньше, совсем ещё недавно, квартир остро не хватало, и многие люди десятилетиями стояли в очереди на жильё, живя в стеснённых и, как тогда говорили, нечеловеческих условиях. И до многих из этих многих очередь не доходила. А сейчас, значит, мало того, что квартиры первых этажей превратились в магазины, парикмахерские, аптеки и склады, так ещё и на других этажах они пустуют, и никто в них не живёт и не собирается жить даже временно. Наверно, и правда, население страны, вымирая и разбегаясь, сокращается существенно, и проблема жилья, тот самый вечный жилищный вопрос, решается самостоятельно, без каких-либо целенаправленных усилий со стороны строительных организаций.
Я думаю об этом, глядя на черный Днепр, который не начал ещё светлеть. И не начнёт, пока не начнёт светлеть небо над ним. Но думаю я параллельно и о другом. Я пытаюсь ответить на вопрос, на который ответить нельзя. Вернее, можно ответить как угодно. А можно не отвечать вовсе — забыть и вся, так сказать, недолга. Вопрос такой: связан ли мой недавний сон с тем, что произошло наяву, или не связан? И вообще, что он может означать, этот сон, или мои сны не означают ничего?
Мне приснился котёнок. Совсем маленький и ещё грудной. Он душераздирающе, в истерике, мяучил, просто кричал, из последних сил, до хрипа. Так животные детёныши кричат только от голода — когда терпеть его уже невозможно, и от страха — когда теряют мать и не могут её найти. А я наклонился и погладил его пальцем. Это было всё, что я мог для него сделать. Еды у меня не было. И котёнок, не прекращая кричать, пошёл за мной на шатких пушистых лапах, и мы пришли на остановку трамвая, и он прыгнул изо всех сил следом за мной на ступеньку, долетел до неё, вцепился когтями, подтянулся и влез всеми четырьмя. Я попытался не пустить котёнка, думая «вдруг у него есть хоть какой-нибудь хозяин, а он уедет в трамвае и никогда не сможет вернуться обратно». Поэтому я спустил котёнка с площадки на землю, а он запрыгнул опять и опять влез на ступеньку, и проскочил мимо меня внутрь, в салон, и забился под пластиковое сиденье, и умолк. И я ехал в этом трамвае, на сиденье, под которым сидел котёнок, и думал, что мне с ним делать, оставить — а значит, бросить здесь, в вагоне, отвезти его обратно или забрать с собой. Я думал и не мог ничего решить, а трамвай шёл, и моя остановка всё приближалась и приближалась.
Какие-то параллели с действительностью в этом сне при большом желании просматривались. Конечно, не прямые, а слегка искривлённые и почти притянутые за уши. Но что из этого следовало и как нужно толковать мой сон, и нужно ли его толковать, я не имел понятия. К тому же не мог для себя выяснить, почему именно этот сон мне запомнился. Обычно-то я сны забываю на корню. Просыпаюсь с ощущением, что мне что-то снилось, а что — забываю моментально, как только открываю глаза и ощущаю себя проснувшимся. Или, бывает, проснусь от ужаса. И понимаю, что ужас есть, причины ужаса нет. Она исчезла во сне — закончившемся и в один миг забытом. Оставив только ужас, лишённый причины, ужас как таковой — что ещё ужаснее. Одно в этом ужасе хорошо: проходит быстро. Буквально три-четыре глубоких вдоха, и нет его.
А котёнка я после пробуждения не забыл. И не только котёнка. Я не забыл подробности сна. Например, мне было точно известно, что котёнок этот не Тишка и не похож на Тишку, и я во сне помнил, что Тишки, сорвавшегося с девятого этажа, давно уже нет в живых. Проснувшись, я даже не сразу определил — всё это мне приснилось или случилось на самом деле. Я даже осмотрелся. Поискал котёнка глазами. И опять вспомнил, как я снял его с площадки на землю, и как он снова упрямо залез в трамвай. А вот взял я его с собой или, оставив в вагоне, ушёл, этого в моём сне не было. Сон оборвался раньше. Как и положено по законам жанра — на самом интересном месте, посреди сюжета. Наверно, это взял-не-взял не имело определяющего значения. Наверно, сон мне снился не для того. Но вообще, никто не знает, для чего снятся сны. И почему одни люди смотрят их каждую ночь, а другие лишены этого удовольствия и не представляют, что это такое. У меня есть знакомые — муж и жена. Так мужу ни разу в жизни ничего не снилось, зато жена такие сны видит! Когда она ложится спать, муж говорит: «Лерка легла кино смотреть».
А почему сны снятся такие, а не другие, почему то запоминаются, то забываются? Об этом не у кого спросить. Сон разума, он и есть сон разума, и рождает этот сон, как известно, чудовищ. Особенно когда в сон погружается не один отдельный человек, а вся страна, нависающая над тобой. Россия во сне ничем не лучше России в огне.
Почему мне пришла на ум Россия, конечно, не очень понятно. Поскольку я-то живу на Украине, и меня это место жительства так или иначе устраивает и удовлетворяет. Во всяком случае — пока. Видимо, дело в языке, в том, что я говорю, думаю, пишу, брежу по-русски, и самые идиотские сны — слава Богу, я их запоминаю редко — мне снятся на русском языке. Поэтому понятно воздействие на мои мозги самой всевозможной русскости, поэтому и написалось само собой слово «Россия», невзирая на то, что окружает меня другая (к сожалению, недостаточно другая) страна.
Нет, вообще-то довольно долго можно жить, не обращая внимания на то, что творится вокруг, в стране и за её пределами. Жить своей приватной жизнью, получая от неё всё — как горести, так и радости в комплекте — и ни с кем не делясь. Но постепенно окружающая среда сгущается, тяжелеет, в ней накапливается что-то такое, неясное, но очень реальное — и всё это начинает на тебя со всех сторон давить. И ты чувствуешь на себе давление воздуха, людей, зданий и сооружений. Чувствуешь и понимаешь, что избавиться от него, его избежать, невозможно, понимаешь, что законы физики непоколебимы и вечны. И ты начинаешь как-то приспосабливаться, приноравливаться к этому неизбежному давлению, начинаешь под ним обустраивать свою жизнь, чувствуя телом и сознавая умом, что давление увеличивается и не сегодня завтра может раздавить всё, тобою и другими построенное, и оно — построенное — рухнет и завалится, и ты останешься ни с чем под обломками, в импровизированной нерукотворной могиле. Другие, само собой, тоже там останутся, но кому легче от того, что могила не твоя личная, а братская? Да, братская, хотя попадают в братские могилы никакие не братья, а иногда и натуральные враги, но попав в братскую могилу, они автоматически становятся братьями навек. Не зря же братские могилы бывают, а вражеских не бывает.
И ещё одно ты понимаешь. Что чем дольше страна будет спать, тем лучше. И для неё лучше, и для тебя, и для всех. Так хоть давление накапливается постепенно и медленно, и чудовищ в своём сне страна рождает сонных, в зевоте, и не слишком свирепых. А вот если она вспрянет ото сна — что будет тогда? Опять знак вопроса. Лучше и не думать. С возрастом их, этих горбатых знаков, возникает всё больше, и ты движешься от обилия восклицательных знаков к обилию вопросительных. Причём время заменяет их — восклицательные на вопросительные, — ему мало того, что вопросительных знаков становится всё больше, ему нужно ещё чтобы восклицательных становилось всё меньше. А меньше вроде и некуда, чисто арифметически. Или это только вроде? Опять знак вопроса…
Интересно, у этих людей, едущих со мной в маршрутке и досыпающих сидя то, что недоспали лёжа, у них тоже полно этих знаков? А может, их тоже выставили? И они тоже едут в какие-нибудь свои убежища или к своим знакомым мужчинам и женщинам, у которых можно пожить и переждать. Неважно, что переждать. Всё. Что бы ни пришлось.
Да, наверно, хорошо иметь такую близкую доступную женщину со своим доступным жилищем. Я давно думаю о том, что для меня это было бы не просто хорошо, а очень хорошо и желательно. Но стоит мне познакомиться с женщиной, которая мне нравится и годится, как начинаются какие-нибудь неприятности. От смешных до не очень. Назавтра после одного такого многообещающего знакомства, когда я подумал: «Вот кто мне нужен для полного счастья, вот с кем я смогу избавиться от Лёли и нейтрализовать её пагубное влияние», — на носу у меня вздулся фиолетовый, непомерных размеров прыщ, вернее, фурункул. Он вздулся на самом кончике моего носа. А так как носом меня Бог и природа не обидели, то вид я имел — прохожие дети указывали на мой нос пальцами и спрашивали у мам, зачем дяде на лице такая загогулина — чтобы мы его боялись и хорошо себя вели? Не то что к женщине при наличии такого гипертрофированного носа, на улицу под покровом ночи выйти не тянуло.
И прыщ — это можно считать курьёзом, шуткой всё той же самой природы. Прыщ всё-таки рассосался и исчез с лица, оставив по себе лишь небольшое фиолетовое затвердение и эти воспоминания. Случались неприятности и посерьёзнее. И если бы они случались со мной и ни с кем больше, так можно было бы как-то с ними мириться и переживать их своими силами, но они случались и с моими близкими. Когда у человека есть близкие, это, конечно, неплохо. Если с ними ничего не случается.
Так вот, в один из нелучших наших с Лёлей периодов, я не выдержал жизни наедине с собой и завёл себе любовницу. И моя мама тут же сломала себе шейку бедра. Как потом выяснилось, произошло это с ней именно в то время, когда мы были в постели. И это ещё не самое страшное, что случилось с моими близкими в период моих попыток обойтись в жизни без Лёли и начать жить как-нибудь поспокойнее и более предсказуемо, что ли. Мама пролежала несколько месяцев, но всё-таки выздоровела, нога у неё, вопреки ожиданиям врачей и их предсказаниям, срослась, и она ходит теперь, как ходила всегда, будто и не было у неё того тяжёлого перелома и тех месяцев. Самое страшное случилось не с мамой. Мама только сообщила мне о случившемся. О чём я всегда вспоминаю с тоской. И всегда неожиданно. И как только я это вспоминаю, у меня исчезает желание не то что жить по-другому, у меня вообще все желания притупляются, остаётся только биологическое ощущение жизни, а больше никаких ощущений не остаётся. И здесь тот случай, когда я, говоря громко и пафосно (но искренне), многое отдал бы за то, чтобы произошедшее со мной впервые, не произошло вообще никогда. Здесь я согласился бы, чтоб первого раза не было. И не нужна мне такая острота чувств и такие впечатления, провалиться бы им.
Я, конечно, опять говорю о Лёле. О том, как она выставила меня в самый первый раз. И о том, что всё отдал бы за то, чтобы этот первый раз пропустить, изъять из прошлого и, естественно, из настоящего. К тому, что меня можно взять и выставить, я тогда ещё не привык и не был к этому подготовлен морально. Я просто не подозревал, что такое возможно. А Лёля мне показала, что возможно и очень легко. И я, оскорблённый и злой, ушёл, думая, что в такой ситуации нужно уходить один раз, если ты мужчина, а не тряпка какая-нибудь. Естественно, в те годы я ещё причислял себя к мужчинам, а не к тряпкам. Идти у меня было куда. И я туда пошёл. То есть поехал. Только чтоб уединиться и побыть самому с собой вдали от Лёли. Чтобы прийти в себя и в какое-нибудь равновесие. Чтобы не наговорить ей незабываемых гадостей. Чтобы не дать, в конце концов, по физиономии. Это было нормальное желание — желание побыть без никого. Я действительно хотел этого, а не чего-либо другого. Но она сама со мной заговорила. Прямо в троллейбусе. Хотя и не была похожа на женщин, пристающих к мужчинам в транспорте с целью извлечения выгоды. А вообще, я не знаю, на кого она была похожа, и на кого не была. Знаю, что посмотрела на меня продолжительно и сказала:
— Что, жена бросила? Или выгнала?
Я не собирался ей отвечать, и тем не менее ответил:
— Выгнала.
Она не утешила меня никоим образом. Она сказала:
— Значит, заработал и заслужил.
И больше ничего не сказала. Пока мы не вышли из троллейбуса. Она, и когда вышли, не сказала, а пошла в другую сторону. Но потом передумала туда идти, вернулась, догнала меня, и спросила:
— У тебя деньги есть?
И я сказал, что какие-то есть.
— Ну, раз какие-то — зайдём в гастроном.
В гастрономе мы купили бутылку красного портвейна. Тогда со спиртным было не особенно хорошо и вольготно, и в винном отделе был только этот портвейн, батареи одинаковых пыльных бутылок, одна к одной, на всех полках. А больше не было ничего. И еды мы тоже купили. Какой — не помню. Но что-то мы ели. Это мне почему-то запомнилось хорошо. То есть, вернее, я не помню, чтобы мы пили портвейн без закуски. Значит, закуска была.
Ну, что произошло после портвейна, ясно. Какой была эта женщина любовницей — тоже помню не очень. Наверно, обыкновенной. Из всей гаммы и палитры возможных чувств, я испытывал к ней чувство благодарности. За то, что заговорила, за то, что не ушла, а пошла и провела со мной время. Всё-таки без неё мне было бы гораздо хуже, и моё желание быть одному было ошибочным, ложным желанием.
А утром приехала мама. Ей позвонила Лёля и попросила, чтоб она привезла меня домой. Мама приехала очень рано. В половине шестого. И конечно, увидела, что я не один. Она сказала:
— Сволочь ты.
Я сказал:
— Почему?
А она сказала:
— Собирайся.
Я собрался. Моя случайная женщина тоже собралась. Быстро и незаметно. И ушла она — незаметно. Во всяком случае, я её ухода не заметил.
По дороге мама всё мне рассказала. Вчера, поздно вечером, Лёля оставила Светку дома и пошла выгулять Дика. Что было моей обязанностью, ежеутренней и ежевечерней. Но меня не было, и она пошла вместо меня. А Светку оставила сидеть в ночной квартире. Почему Лёля не уложила её спать, как обычно, в девять, мне непонятно до сих пор. И Лёле непонятно. Видно, ускользнуло от неё время, и она потеряла с ним связь и чувство его потеряла. А спохватилась — Дик скулит, на улицу просится, и Светка не спит…
Выгулять Дика во дворе на скорую руку Лёле не удалось. Он потащил её через набережную к Днепру. Там Дик любил гулять больше всего. И один подонок снёс Дика…
Потому что автомобили заняли своё место в нашей жизни. Мы их туда с удовольствием, как дураки, впустили. А они заняли место и в нашей смерти. В настоящей и придуманной. Чего от них никто поначалу не ожидал. Автомобилей стало полно не только на улицах, их полно в романах, рассказах, повестях — в текущей мировой литературе, в общем. Я давно это заметил, ещё когда Дик был жив, и давно меня это нервировало. Потому что как ни откроешь книгу — хоть из их жизни, хоть из нашей — герои и героини в автомобилях ездят, в них целуются и любят друг друга, рождаются в них, в них живут и обделывают всякого рода дела, в них и под ними гибнут. Дети, старики, женщины, преступники, все подряд гибнут. И я давно понимаю — это не потому, что у авторов напрочь отсутствует богатая фантазия, и они не способны умертвить своих персонажей как-нибудь лихо, оригинально и привлекательно для читателя, а потому, что действительно бездна зазевавшегося и иного народу кончает свои дни и ночи под колёсами. И происходят эти кончины постоянно и статистически неизбежно. И значит, ни от гибели этой машинизированной никуда не уйти, кому суждено, ни от её описания. Хотя описывать тут фактически нечего…
Дик стоял чуть впереди, натягивал поводок. Который и остался у Лёли в руках, с вырванным карабинчиком ошейника.
И пока водитель возвращался на место происшествия за зеркалом заднего вида, пока удивлялся, что он на кого-то наехал, пока Лёля приходила в себя, пока возвращалась домой, прошло, конечно, какое-то время. Дверь в квартиру была не заперта. И даже приоткрыта. И Светки в квартире не было. И нет по сей день. Не заперла ли дверь Лёля или её кто-то открыл — установить не удалось. И Лёля полночи слонялась по пустой квартире с поводком в руках, ничего не предпринимая. Поводок — это всё, что у неё осталось в руках. Ну, и я остался. Но это её не утешало, это для неё было всё равно что ничего. А у меня тоже осталось ненамного больше. Вернее, Лёля у меня осталась. Или она осталась не у меня, а отдельно от меня. Рядом, но отдельно.
С тех пор я заводить любовниц побаиваюсь. Хотя меня и сейчас временами тянет к какой-нибудь тридцатилетней жучке, у которой из-под хвоста исходят во все стороны тучи флюид. Но я, во избежание последствий и несчастий, себя останавливаю. Я смотрю на абсолютное большинство окружающих женщин и говорю себе:
— Вот эти климактерические бабищи, вялые и оплывшие, лет на пять, если не больше, младше тебя. Понял, старый козёл? Или не понял? Прочувствовал или не прочувствовал?
В таком, значит, примерно духе. И мои самоуговоры помогают и действуют на меня правильно, и я остываю и теряю возникший было интерес, и останавливаюсь, ничего не достигнув.
А другим — ничего и хоть бы что. Другие вполне могут себе позволить любовниц. Тем более если с умом.
Вот, к примеру, один из моих прямых предков (теперь стало модно вспоминать предков к месту и не к месту) — дед со стороны отца. Он был человеком с умом, хотя и закончил свою жизнь в сумасшедшем доме. Дед имел две законных семьи. Параллельно. И параллельно в них жил. Конечно, он их и содержал более или менее достойным образом — двух жён и троих детей. Это было нелегко и не так просто в исторический период после великой революции, оказавшейся в глазах потомков бандитским переворотом. Зато дед всегда мог уйти из одной семьи и пойти в другую. Его всегда ждали. В обеих семьях. Особенно нетерпеливо ждали, когда он не приходил долго, и он не приходил иногда специально и обдуманно — чтобы соскучились и радовались его приходу, а не выговаривали за долгое отсутствие и не надували губы.
А что он сошёл с ума от своей жизни, так это неудивительно. Во-первых, это случилось в старости, когда ему перевалило за семьдесят, и с ума по физиологическим причинам сходят многие бывшие мужчины, а во-вторых, ему было от чего рехнуться и в более раннем, цветущем возрасте. И совсем не из-за наличия двух семей. У него хватало других веских оснований, так сказать, общественно-политического и социального свойства. Да просто суммы впечатлений, которые пришлось получить от жизни, хватало. Они не могли пройти даром, не оставив своего следа в виде шрама на психике. Дед имел полное право рехнуться. Всё-таки он небезуспешно пережил погромы в начале века, первую мировую войну, революцию, гражданскую, НЭП, культ, Великую Отечественную и всё, что сразу же за ней последовало. А когда это закончилось и прекратилось, он попал в психбольницу. Вернее, как попал? Подробностей я не знаю. О подробностях со мной никто никогда не говорил. Я могу только догадываться и строить собственные шаткие предположения. Что деда в больницу не забрали. Кто в советские пятидесятые, да ещё в самом их начале, забирал в психушку стариков, выживших из ума? Кому они там были нужны? Значит, наверно, деда туда сдали родственники. Его и мои родственники. Конечно, их жилищные условия не слишком располагали к жизни бок о бок с сумасшедшим, всё глубже погружающимся в старческий маразм и полный распад личности. Да и ему невозможно было создать условия безопасного существования. И, наверное, они сдали его в больницу по собственной инициативе и по здравому рассуждению. И он прожил там какое-то не очень значительное время — пользуясь, как говорили, всеобщей любовью спецмедперсонала — и там же (или оттуда же?) благополучно ушёл из жизни, потеряв предварительно весь рассудок без остатка и, значит, смерти своей не заметив. Но своё время или свою эпоху он пережил. Он часто повторял, как присказку навязчивую «ничего, — повторял, — я вас, блядей, всех переживу». И выполнил своё обещание, пережил. Пребывая не где-нибудь на обочине, а в самом центре событий и не будучи ни одного дня ни пролетарием, ни ленинцем, ни хотя бы сочувствующим им, социально близким элементом.
Ему в наследство от предков досталась старая переплётная мастерская в городе Екатеринославе. При всех царях она имела заказы, принося кое-какой доход — и уже одно это психованные большевики считали непростительной крамолой и контрой.
Дочь деда, мою тётку, батько Махно брал в заложницы, когда ей было пять лет, и требовал у деда контрибуцию, в смысле, выкуп. И вынудил деда выкуп заплатить. Дед отдал всё, что у него было, всё без остатка, всё до последнего. И дочь свою вернул. А она сказала, что у батьки ей было хорошо и не страшно, и что её поили там тёплым молоком из бутылки.
Его сын Зорик, единокровный, так сказать, брат моего отца и моей тётки, погиб в Отечественную войну.
У деда дважды отбирали мастерскую. Первый раз в результате победы над страной революции, второй раз во время принудительного свёртывания НЭПа. Он бежал из города с женой и двумя детьми без вещей и имущества, если не считать имуществом трёх одеял, захваченных впопыхах и оказавшихся потом очень кстати. Бежал, после того как родственник жены, дальний, но порядочный человек, служивший советской власти чекистом, пришёл на ночь глядя и предупредил:
— Мастерская, это только начало конца. А конец — в самом лучшем случае, в случае, если Бог окажет существенную помощь, и тебе повезёт — это тюрьма.
— За что? — заорал на родственника жены дед.
— Ты есть в списках, — сказал родственник жены.
— Я точно там есть? — спросил дед, не уточняя и не интересуясь, о каких списках речь.
— Наум, ты меня обижаешь, — ответил родственник. — Сегодня под утро за тобой придут.
И дед со всею своей семьёй бежал. Сев той же ночью в какой-то длинный товарный поезд и имея очень небольшое количество еды на всех. Поезд шёл порожняком с юга на север, ничего и никого не вёз, никем не охранялся (видно, уже тогда социалистический идиотизм существовал), мало по тем временам и условиям стоял на станциях, что с одной стороны, было хорошо — еды на долгую дорогу им бы никак не хватило, а с другой — в щели вагона на ходу так дуло, что если бы не одеяла, детей бы они точно не довезли.
И привёз их этот пустой и довольно скорый поезд без всяких пересадок, правда, и без удобств, в столицу Советского Союза и Советской России, город Москву. Туда, куда дед и собирался в конце концов любыми путями добраться.
— Москва велика и многолюдна, — говорил дед жене, — и затеряться тут будет проще простого.
Он даже не стал менять фамилию и тратить последние деньги на новые безопасные документы. Он надеялся на вселенский бардак (примерно то же самое, что хаос), с первого большевистского дня царивший в стране, а значит, и в её столице. Надеялся, имея на то все основания. Потому что бардак всё крепчал и крепчал, принимая угрожающие размеры и становясь всё более концентрированным. И действительно, в Москве никто деда не тронул, и он вполне прилично устроился там на постоянное жительство, и снова в конце концов стал, пусть не хозяином — хозяев к тому времени уже отменили и обезвредили, — но директором переплётной мастерской. Там же, в Москве, чуть ли не сразу по приезде, дед завёл себе вторую семью и родил младшего, последнего, сына Зорика. Которого потом убили в сорок пятом году, как только взяли на войну, и он не успел ни пожить по-человечески, ни повоевать. Ничего, короче говоря, не успел, только зря родился. А до этого обе семьи деда, то есть его общие дети и общие жёны общались и чуть ли не дружили. Дед по этому поводу говорил, что его семьи дружат женами.
У отца тоже было две семьи, правда, не параллельно, а последовательно. И очень жалко, что я в этом смысле не в деда. Или не в отца. И ехать мне сейчас не к кому, хотя и есть куда. Конечно, это уже немало. Уже хорошо. Мне, сколько я себя помню, всегда было хорошо. Так как всегда было куда ехать. Но насколько было бы лучше, если б вместо «куда» у меня было «к кому». Любовница, ещё одна жена — какая разница? От перемены названий, суть, как известно, никогда не меняется. На то она и суть. Чтоб не меняться по любому отсутствующему поводу.
Конечно, не мне судить, но, видно, что-то недодумано Всевышним насчёт прелюбодеяния. Погорячился Он, поспешил с ограничениями и определениями, однозначно трактуемыми. Имеющий с кем прелюбодействовать, имеет тыл. Имеет те самые, вышеупомянутые, заранее подготовленные позиции. И я понимаю и не против того, что тылом должна быть не любовница, а семья — ячейка общества. Но мало ли что должно быть? Должно быть одно, бывает другое. И часто это другое отличается от того, что должно, до полного (ну, или частичного) наоборот. Так что зря Господь Бог утруждался определять, где и какой должен быть у человека тыл. Хватило бы того, что тыл быть должен. А семья это или вторая семья, или женщина лёгкого поведения и нрава, к которой можно прийти и у неё остаться на ночь или на день, или навсегда — безразлично. И почему нужно было это запрещать и считать смертным грехом, тем более что и сам Бог создавал одно, а создал другое? И опять знак вопроса, и кому этот вопрос адресован — себе, Ему или это так вопрос, вопрос ради самого вопроса и больше ни ради чего?
Есть у меня одно предположение на этот счёт. Не знаю, близко оно к истине или от неё далеко. Я думаю, тут вполне возможно, что Бог — так как Он сам есть любовь — сначала не собирался запрещать прелюбодеяние при наличии любви, а хотел запретить только прелюбодеяние ради прелюбодеяния, то есть блуд и блядство в чистом виде. А потом подумал, что запрети нам прелюбодействовать так, а иначе разреши — мы обязательно этим воспользуемся без зазрения совести по своему разумению и будем потом на страшном суде клясться, что любили всех своих сто шесть любовниц плюс жену, как самих себя, то есть безумно. И обязательно это докажем хоть Богу, хоть чёрту, хоть всему составу страшного суда, включая прокурора и его товарища. Со справками и свидетельствами в руках докажем. Напирая на то, что чего с нас взять, раз любили мы безумно, другими словами, без ума. Так, как только и можно любить. А то придумали пошлое красивое выражение и красиво выражаются по любому пошлому поводу: «Безумная любовь, безумная любовь!» Будто бывает любовь умная. Злая любовь бывает и несчастная, допустим, бывает. А умной (как и неумной) — не бывает никогда и ни при каких, даже самых благоприятных отягчающих, обстоятельствах. И тем более не бывает «умной безумной любви». Так как это то же самое, что «безумная любовь по расчёту» или «трезвый расчёт по любви».
А впрочем… Никто не знает. Возможно, что и такая любовь возможна.
Давно я всё же не выходил в такую рань. Так давно, что просто не представлял себе города в это время суток. Не представлял, что такое ночная, дорассветная жизнь так называемого большого города. Моего города. Города, в котором я как-то живу. Только иногда, когда почему-нибудь мне не удавалось уснуть, я наблюдал отсветы этой жизни — стоял в кухне, опершись ладонями на подоконник, и смотрел сквозь чёрное стекло на окна домов. И некоторые из них время от времени освещались внутренним неярким светом и через несколько минут снова гасли. То тут, то там, то в одном доме, то в другом, то в соседнем. И я понимал, что это люди после любви ходят в ванную и перекусить, восстанавливая растраченные силы, или маленькие дети не спят, болея и требуя к себе внимания, или кто-нибудь умирает. Но в этом случае свет горит обычно всю ночь, так же как и тогда, когда человек в квартире боится спать без света, боится ночи и темноты, наполненной страхами детства и взрослыми, не менее страшными, кошмарами.
Выходя из дому, я был уверен, что выхожу в ночь. И меня, можно сказать, грела эта уверенность. Выходить в ночь — в этом что-то есть, это не то что выходить в утро или в день, или в вечер. И выйдя из подъезда, я действительно попал в ночь, в нашем спальном, хотя и приближённом к центу, районе была именно ночь, чёрная и глухая. Спальный микрорайон спал. Толпа многоэтажных, серых без света дня, домов стояла с потушенными огнями квадратно-гнездовым способом. Только кое-где горело какое-нибудь шальное окно, и оно ещё больше подчёркивало своим светом всеобщую темень и всеобщую серость. А серость пейзажа способствует серости мыслей. Мысли сливаются с фоном и становятся никому не видны, незаметны, неразличимы. И мои мысли были именно серыми. Они даже чёрными мыслями не были. Не тянули они на чёрные мысли. Их цвет, если мысли имеют цвет, был абсолютно серым, исчезающим. Даже о том, что в данный момент я фактически ненавижу Лёлю, — думалось мне серо и как-то невзрачно, бессильно. В смысле, слабо. Это была такая ненависть без эмоций. Или это вообще не была ненависть. Скорее — мысли о ненависти. Я просто думал, что совсем без неё жить невозможно. Что-то ненавидеть необходимо.
Может, именно поэтому я ненавижу моль во всех видах. Даже в мёртвом. Раздавишь её, а она превращается в жирную противную пыль. Руки скользят, и потом ещё час пыльца эта, с трупа облетевшая, кожей чувствуется. Так что, думаю, моль — объект для ненависти, ничем не хуже, чем какой-нибудь другой объект. И ненавидеть моль — гораздо лучше, чем ненавидеть чеченцев или евреев, или русских, или украинцев. Это даже лучше, чем ненавидеть Лёлю.
Вот, оказывается, одна ненависть может быть лучше другой.
Во всяком случае, многие люди обойтись без ненависти, хоть какой-нибудь, не могут. Так же как многие люди не могут обойтись без любви. И как есть любовники, так, наверное, есть ненавистники, и они тоже держатся друг за друга, потому что ненависть вообще — как и любовь вообще — относится ко всему и ни к чему. И ни всеобщая любовь, ни всеобщая ненависть никому не приносят в жизни счастья или хотя бы глубокого удовлетворения. А в самом худшем варианте, когда ненависть в тебе есть, а ненавидеть некого, она может обернуться против тебя самого. Поэтому людей, способных вызвать в нас чувство ненависти и стать действующим объектом этой ненависти, надо беречь и хранить. Более того — их надо любить. Особенно если они служат нам объектом на протяжении лет и десятилетий, и жизни.
В первое время после исчезновения Светки я стал ходить на кладбище. Довольно часто. И каждый раз я встречал там сильно пожилую женщину. Она всегда сидела в оградке, уставясь в холмик. Ухоженный и зеленеющий мелкой травой.
А как-то мы вместе выходили к двадцатому троллейбусу, чтобы вернуться в город. Шли по аллее, между старыми, заросшими могилами, мимо ржавых оград и поваленных, расколовшихся памятников — когда у живых жизнь и быт, и мораль, и всё на свете разлажено и разваливается, кладбища тоже приходят в упадок. Я ничего у неё не спрашивал. Шёл следом, чуть поотстав. Она сама мне всё рассказала. Без предисловий и объяснений — зачем рассказывает такое незнакомому человеку. Сказала, что чуть ли не каждый день ходит сюда. На могилу мужа. Сказала:
— Я при жизни всё его существо ненавидела, до волос и ногтей. Столько он моей крови испортил, столько гадостей сделал. Если бы вы знали, сколько раз я заставала его с бабами в нашей спальне, на нашей постели. И всегда он говорил только одно слово: «Выйди». А когда у него было плохое настроение, он мог просто подойти ко мне и ударить по чему придётся. А рука у него была — не дай Бог. Как у молотобойца какого-нибудь потомственного. Три раза мне диагноз «сотрясение мозга средней тяжести» ставили и один раз — «черепно-мозговая травма». А потом он заболел. Не смог встать с постели, и всё. Инсульт. И лежал больше двух лет. Всё понимал, и позвать мог, пускай и мычанием. И ни разу не позвал. Иногда я рядом, он в глаза мне смотрит и под себя всё делает, гад. И умер, как специально, в Новый год, ночью. Везде люди празднуют, из ружей палят в воздух, смех стоит на улице, гам, а у меня в доме покойник свежеиспечённый. И помочь его обмыть и одеть, и на стол переложить больше ста килограмм — некому. К кому ты пойдёшь за помощью, когда такой праздник у людей, семейный и всеобщий? А завтра — первое, — выходной и продолжение праздника, и нигде ни души. Только второго бюро похоронное открылось. Так он и лежал до третьего числа в доме.
А теперь вот, кроме него, и пойти не к кому. Любить мне всегда, считай, некого было, и спокойно я обходилась и обхожусь без того, чтоб любить. Но теперь-то и ненавидеть стало некого, а без этого я уже, видно, могу не очень.
Выходит, одно только постоянство дорогого стоит. Уже потому, что само по себе оно — большая в нас редкость.
К сожалению, из всех правил случаются досадные многочисленные исключения. И ни черта они не подтверждают правила, они их разрушают. Потому что правило, имеющее неограниченное число исключений — это не правило. А одно сплошное исключение. И исключений таких, если посчитать, давно уже больше правил. И ту же Лёлю иначе как исключением не назовёшь, нет ей другого определения. Ей уже сорок, а она неуёмная и всё время что-то творит, как творила в двадцать. А может, и в шестнадцать лет творила она то же самое и была ничем не лучше, только голенастее, тоньше и девственнее, что ли. И творит она не от страсти творить или из корыстных, скажем, соображений. В Лёле это от устойчивого внутреннего хаоса. Она же никогда не знает, будет ей — или кому-либо другому — от её действий лучше или хуже. Она над последствиями не раздумывает. А действует как-либо и всё. Она вообще не представляет и не учитывает, что от её поступков могут быть последствия. Когда же они неизменно наступают, Лёля в ответ на это совершает новые поступки, у которых тоже бывают свои последствия. И она заражает этим совершением других. Тех, кто поблизости живёт или попадается ей под руку случайно.
Меня она временами тоже заражает. И я заболеваю. И мне хочется изменить свою жизнь к лучшему или как получится. Хотя консерватор я порядочный. А сейчас мне не просто хочется, сейчас я почти уверен, что с большим опозданием пришло время это сделать — сменить всё, что только можно сменить: работу, образ жизни, того, для кого работаешь, зарабатываешь и, можно сказать, живёшь. Да и себя самого не помешало бы мне на что-нибудь сменить. Или не на что, а на кого. Хотя это нюансы и глупости. Как ты себя сменишь? Никак.
Работу немедленно я могу если не сменить, то бросить, образ жизни сменится при этом сам собой и очень стремительно. И я уже принял было решение это сделать. Но решение оказалось вялым. И я тормознул. И не бросил работу. И не стал её ни на что менять. Хотя бы потому, что она сама могла в скором времени исчезнуть — поскольку новые хозяева нашей газетки уже вступали в свои права, обязанности и должности.
А что касается того, для кого живёшь… Похоже, что этой смены избежать всё-таки не удастся. То есть уже не удалось. Не впервые, конечно. Но предел есть всему, кроме бесконечности. Да и это ещё неизвестно. Терпеть жизнь (вместо того, чтобы жить) можно какое-то время — и многие терпят, и я терпел, — но чуть ли не полтора десятка лет кряду — это, наверное, перебор. И не надо, бесполезно, в сотый раз себе напоминать, что «Господь терпел и нам велел». Это давно уже общее место, банальность. Господь терпел во имя чего-то. Большого и чистого, между прочим. Хотя искупление чужих грехов, то бишь мерзостей — свинцовых и разных, — назвать чем-то чистым можно только с завязанными на всё глазами. Но делом благородным это назвать можно. Бесполезным, но всё-таки благородным. И это нормально. Благородство всегда бесполезно. Так же, как бесполезно, допустим, счастье. Или счастье небесполезно? Почему-то же говорят, что быть счастливым — полезно для здоровья. А не быть, видимо, вредно. Но, что делать, — нам с самого начала не обещали, что все мы будем жить хорошо и счастливо. И значит, все хорошо и счастливо жить не должны. Все должны жить — это да. А как жить — никто нам, каждому в отдельности, никаких гарантий, равно как и рекомендаций, не давал. Всем хором — давали. В Библии есть эти немудрёные рекомендации, которые и рекомендациями-то назвать язык не поворачивается — потому что половина из них начинается с «не». И что это за рекомендации — всем? Огромной, неподъёмной части человечества — разной внутренне, внешне, на цвет и на ощупь. Нет, это рекомендации не всем. Это рекомендации никому. Поскольку рекомендации нужно или не давать вообще, или давать их каждому отдельному человеку. Иначе каждый отдельный человек не обратит на них никакого внимания. Ну, как в автобусе, когда не успел кто-то выйти на остановке. Если он будет кричать «граждане, передайте водителю, чтобы открыл дверь» — никто, ни один гражданин, не отреагирует. Все посчитают, что обращаются к кому-то другому. Но если закричать «мужчина в рыжей шляпе, вы, вы, толстый, передайте…» — всё будет как надо. Этот толстый в шляпе обязательно бросится просьбу выполнять и кричать через головы и плечи, маша руками, и передаст всё в лучшем виде кому просили. Индивидуальный подход к человеку — великое дело и переоценить его невозможно. А недооценить — легко.
И наверно, все наши беды от того, что мы, имея такие обобщённые рекомендации, вынуждены жить наобум. Наобум выбирать дорогу, по которой будем потом идти до её или до своего конца. И, естественно, дорогу мы выбираем не ту, и вообще не дорогу, а какой-нибудь просёлок, где грязи по колено, и по обочинам растут недоповаленные ветром деревья, и сидят на них вороны новой особой разновидности: в весе достигают ста пятидесяти килограммов, питаются трактористами. Само собой разумеется, пройдя по этому просёлку, мы приходим к выводу, что жизнь не удалась и не состоялась, и что жить нужно было совсем не так и не здесь, заниматься не этим, а тем, и жениться не на той, а на этой, этой и этой. И как только мы всё это поймём, мы уже не живём, а жалеем о своей неудавшейся, прошедшей мимо нас жизни, жалеем себя. И это уже не жизнь, а тихое несчастье. Созданное самим себе своими руками и усилиями.
Поэтому многие и жизнь свою изменяют туда-сюда-обратно. Думают, она же, сволочь, одна, а не десять их, и вдруг я живу не так, как должен, а наоборот, недополучая от жизни львиную долю благ, удовольствий и радостей земного происхождения. И меняют всё, что только можно поменять. Дёргаются, как черти в колесе. Только бы получить, по их мыслям и понятиям, своё и вообще, всё от жизни.
Один из мимолётных Лёлиных мужей на этот счёт оригинально высказывался. Говоря: «Если вы пришли, чтобы всё взять от жизни — возьмите и уходите», — кладезь мудрости и остроумия был этот её муж… пропади он, прости Господи, пропадом.
Я не отношусь к таким беспокойным ищущим натурам. Я бы жил себе тихо и мирно, и спокойно, если бы меня никто не трогал. И ничего бы не менял, если бы это зависело от меня одного и только. Поэтому, раз уж я додумался до того, что нужно всё менять, значит, меня достало и добило. И делать я это буду не по своему желанию или капризу, а по крайней необходимости, не имея никакого выбора и никакого выхода. Я действую по обстоятельствам, обеспеченным мне другими. Преимущественно, конечно, Лёлей. Она умеет обеспечить обстоятельства. Любые и всякие. Тут у неё талант непревзойдённый. У неё много непревзойдённых талантов. Но талант создавать обстоятельства, условия и ситуации — большей частью невыносимые — здесь Лёля недосягаема. Здесь она достигла вершин и высот. Или точнее — вершин, так как вершины, они всегда на высотах, а высоты на вершинах не всегда. Мне, главному потерпевшему от Лёлиных талантов, не стыдно констатировать, что Лёля бесконечно талантлива. А талантливый человек всё делает талантливо. В том числе глупости и гадости. Ну, и условия создаёт — это само собой.
Условия Лёля мне создавала всегда, и я всегда в этих созданных условиях как-то старался дрейфовать, не очень теряя лицо и себя. Я вполне приспособился к условиям. Но сегодня Лёля создала мне не условия, она создала обстоятельства. А это не совсем одно и то же. И в этих обстоятельствах я готов пойти далеко, на коренные изменения своей жизни готов пойти. Лишаясь остатков внутреннего равновесия, пусть и неустойчивого, качающегося. Мне было не слишком сложно его лишаться, так как неустойчивое равновесие — неустойчиво. Да и не один я его лишался. А по счастливой случайности или совпадению — вместе со всей страной. Правда, у страны были на то иные причины.
Вчера в моей стране случились самые главные очередные выборы и выбили страну из колеи, и она так же как и я пошатнулась и закачалась, угрожая изменить свой общий образ жизни до неузнаваемости вплоть до движения по кругу в другую сторону. Правда, стране пришлось труднее, чем мне. Я всё-таки один, сам по себе, подвижен и мобилен, и более или менее целен. А она… Она разнородна, неуклюжа, рыхла и неповоротлива, как дура. И разума никакого не имеет. Кроме коллективного, который как лебедь, рак, щука и колобок. Или ещё всех их глупее, потому что ещё противоречивее и многовекторнее.
Возможно, я всё утрирую, а возможно, сужу по себе, обобщая и перенося свой опыт на других, чего делать нельзя. Потому что люди вообще не могут понять друг друга, других людей. Но надо же хотя бы пытаться. Не знаю. Мой опыт таков. Я, какой был, такой и приобрёл, опыт. Потому, что другого опыта мне не досталось, другого на мою долю не хватило. И у меня сложилось впечатление — что страна моя похожа на Лёлю и так же как Лёля давно уже пытается меня выставить. Только я не выставляюсь. Видимо, потому, что делает она это не так грубо, как Лёля, а более нежно, не спеша, на протяжении времени. И от этого протяжения мне кажется, что можно сказать моей стране «а вот хрен, буду я в тебе сидеть до гробовой доски, сидеть всей стране назло». И я сижу. А уехать из моей страны стоило хотя бы для того, чтобы не видеть бездомных кошек и собак, роющихся в помойках и отгоняемых от баков такими же бездомными людьми. И ещё чтобы избавиться от моли. Которая заводится и живёт в моей стране везде и всюду. Во всех жилищах. В шкафах, в ванных комнатах, в макаронах, а также и во дворах домов, в садах, парках и скверах.
Приходя раз в сто лет к себе, я обязательно осматривал помещение — нет ли в нём моли. Я никак не мог понять, чем питается эта сволочь в моей пустой квартире. Там много лет нет ничего съестного, никакой шерсти и тому подобных лакомств, там стоит один-единственный синтетический, совершенно несъедобный диван, а моль не переводится. Притом она разных видов — обыкновенная и пищевая. Ну вот чем она может питаться? Памятью о крупах, муке и свитерах, связанных когда-то моей мамой? Или питаться она летает к соседям?
Кстати, летает она вроде бы неторопливо и праздно, чуть мельтеша, а прихлопнуть её удаётся не всегда. Часто она так помотает тебе нервы, пока попадётся между ладошками, что не дай Бог. Потому что она маленькая и незаметная, сливающаяся с окружающей средой, какого бы цвета эта среда ни была. И я её, моль, за это, за вездесущесть её и серость — ненавижу, и жизнь вокруг блядскую — тоже.
Всё это я говорил и себе, и другим вслух, но сидел на месте. Бесповоротно. В смысле, безвылазно.
В детстве, когда я делал что-нибудь не то — тогда это называлось «не слушался» — отец говорил: «Сейчас выгоню на улицу, и иди, куда хочешь и куда глаза глядят». Я не знал, куда глядят мои глаза, и куда мне, выгнанному, надо будет идти, не знал. И мне из-за этого незнания становилось страшно. Страшно до соплей. Пожалуй, это первый страх, который я помню. Страх, что меня выгонят из дому, одного, и я не буду знать, куда идти. И я думал, что надо слушаться. А отца надо попросить, чтоб наказал меня как-то иначе. Только бы не выгонял. Можно же в угол меня, например, поставить или отшлёпать тяжёлой ладонью. В конце концов, можно не давать мне ничего сладкого, даже сахара из сахарницы. Даже докторской колбасы можно не давать. Она, правда, совсем не сладкая, но я люблю её не меньше сладкого, а когда хочу есть — так даже больше. А выгонять меня не надо.
Я долго боялся, что отец осуществит свою угрозу. И понял, что не осуществит, уже в школе. Во втором, наверное, классе. И, видимо, этот страх слишком долго во мне сидел. Потому что он остался, сохранился и на взрослые мои годы. И я всегда боялся, что меня откуда-нибудь выгонят. Из института, с работы, из дому. И боялся, выходит, небезосновательно. Правда, ни с работы, ни из института меня никогда не выгоняли. Не за что было меня выгонять. Зато Лёля не искала, за что, и выгоняла, не страдая и не мучаясь поиском причин и поводов. И кончилось это тем, что страха во мне не стало. Он стёрся от частого употребления. И ниоткуда я не боюсь теперь быть выставленным, выдворенным, изгнанным. Ни из дому, ни из страны, ни, наверное, из жизни.
А пока всё шло так, как обычно идёт по утрам. Сам я, правда, не знаю, так ли всё идёт, не встаю я так рано ни свет ни заря, но думаю, что никак по-другому утро развиваться не может. И иду я по самому рядовому утру, по самому обыкновенному, и в направлении правильном. И нас таких, идущих, легион. Мы идём туда, а не оттуда, идём, потому что должны идти и потому, что не идти по разным причинам и обязательствам не можем.
Вот идут параллельно со мной рабочие и, я думаю, колхозники, отменённые высочайшим указом как класс, они идут на фабрики, заводы и рынки, чтобы начать свой ежедневный труд, свою битву за трёхразовое питание. Вот идут люди, по лицам которых не скажешь, кто они и зачем, и куда в этот час направляются. Прошли, обогнав меня, двое мужчин. Один сказал: «Подождём. Подождём». Они постепенно увеличили скорость движения, удалились, смешавшись с рассветом, и вышли из поля моего зрения и слуха, воспользовавшись молоком тумана как прикрытием. Куда они шли, чего собирались подождать или «подождём» означало «под дождём»? Я этого от них не узнаю. И сам догадаться не смогу. Я не из когорты догадливых и сообразительных, и находчивых. Да и вариантов здесь бесконечное множество, настоящее торжество вариантов. Так как каждый человек ждёт чего-то своего. Часто под дождём. Часто того, чего другие люди не ждут, и в помыслах не держат. Разные люди вообще ждут разного и по-разному. От одних и тех же событий, бывает, ждут противоположных результатов…
Нет, к чертям. Чтобы об этом думать, надо иметь философский склад ума. А мой склад ума, он философский на уровне размышлений «парадоксально ли выражение «жопа: вид спереди»? Да и зачем он мне, философский склад? Лёле никакую философию противопоставить невозможно. Для неё нужен философский склад не ума, а безумия. Да и его ей не очень-то противопоставишь.
Но я и не претендую. Я человек без претензий. С меня хватит того, что из взаимных претензий все вокруг состоит. Всё на них держится, ими же всё и рушится.
Я не только о сегодняшнем, новейшем, времени говорю. Так было и раньше.
Я вот при товарище Сталине родился и успел пожить при нём четыре месяца в своё удовольствие, пользуясь самым счастливым детством, какое только существовало в природе. И не где-нибудь пользуясь, а в сердце нашей Родины, в её столице, городе городов русских и советских, и прочих.
Дед с бабкой обитали в те времена в какой-то деревянной гнилой хибаре у чёрта на рогах, в Перовом поле. Отец и сестра жили с ними, друг у друга на голове. Сюда же и мама моя пришла в качестве беременной иногородней невестки, и я здесь родился, увидев свет и то, что меня окружало. То есть родился я, конечно, не в этой хибаре антисанитарной, а в роддоме знаменитой Боткинской больницы. Но привёз меня оттуда отец именно сюда, в хибару, в собственный, так сказать, дом своих родителей. И счастье ещё, что тётка моя в то же самое время вышла впервые замуж за некоего Лёшку-чечёточника и уехала жить к нему, на Первый Самотёчный переулок, это чуть выше Садового кольца и нынешнего Театра кукол. А мы все, значит, остались в Перовом поле, в хибаре. И говорят, дед очень меня любил и страшно радовался, что дождался моего рождения. Потому что я был единственным внуком, родившимся от его корня, которого он дождался за полтора года до смерти. У тётки детей не было, Зорик потомства произвести не успел по объективным, от него не зависящим причинам…
И мы жили все вместе четыре месяца, а по их истечении мама взяла меня в охапку и уехала. Она до знакомства с отцом работала молодым врачом в городе Антраците Ворошиловградской области. Туда она и уехала, вернулась.
Не смогла ежедневно выслушивать претензии свекрови. Считавшей, что не пара моя мама её сыну и что вышла за него она замуж только ради московского жилья и постоянной в нём столичной прописки. Иначе никак бы она не смогла вырваться из своей тмутаракани. Да ещё не куда-нибудь, а в саму Москву. Законы тех лет этого ей не позволяли. Сестра отца то же самое о матери моей думала и говорила вслух и в глаза. Видно, воображение не слишком у них было развито, а логическое мышление — наоборот, слишком. Отсюда претензии, построенные исключительно на логике и больше ни на чём. И мама в один прекрасный день пустила всю логику и все претензии псу под хвост, села в плацкартный вагон пассажирского поезда Москва — Дебальцево и уехала. Совсем их своим нелогичным отъездом обескуражив и поставив в тупик. Отец мой тогда сказал сестре своей и их общей матери:
— Ну что, довели человека? Дожелались мне семейного счастья в личной жизни?
А совсем незадолго до этого события деда забрали (или отдали) в больницу, где он в течение года и умер, и товарищ Сталин тоже умер буквально через неделю после нашего демонстративного отъезда из столицы в глушь и в степь. Но на мне это эпохальное событие со сменой власти никак не отразилось. Надо мной была одна власть — власть матери. И это была нестрашная власть, потому что мама меня любила. Она любила меня, как любят своих маленьких детей почти все матери и даже ещё сильнее — меня же в самом начале жизни чуть не задушили. Не специально, но для матери специально или нет — всё равно.
В роддоме у неё развилась обычная женская болезнь мастит, и её там срочно прооперировали. А меня, когда пришло моё время, как положено, из роддома выписали, выдав на руки отцу, чтоб он делал со мной что хочет. И он — тогда студент последнего курса мединститута — в вестибюле стал заворачивать меня для тепла в дополнительное одеяло, чтобы я не замёрз и не простудился во время своего первого выезда в свет. На улице стоял ноябрь и не самый тёплый ноябрь, а ехать по Москве предстояло далеко и долго. И тут к отцу подошла какая-то сердобольная медсестра или акушерка, или может, она работала в роддоме нянечкой и ей до всего было дело:
— Давайте, я вам помогу, — говорит. — Мне нетрудно, хотя это и не мой долг и не мои прямые обязанности помогать кому попало.
Отец говорит ей:
— Не надо, я умею, поскольку сам медик.
А она говорит:
— Медик, но мужчина. А детей пеленать — не мужское занятие, а сугубо женское — так уж нам на роду написано испокон века.
И она помогла отцу справиться и совладать с моими младенческими одёжками без застёжек, и отец повёз меня домой. А когда привёз и распеленал, я был синего цвета, весь в испарине и каплях пота и уже хрипел, а не дышал. Слишком туго меня медсестричка — или кем там она в роддоме числилась — запеленала. Не рассчитала усилий и рвения, а также любви ко всем посторонним людям и к новорождённым детям в частности.
Отец очень тогда испугался и сам покрылся испариной, поняв, что могло случиться, и всё повторял свой рассказ сначала и до конца:
— Я везу его, — рассказывал, — а он кричит и кричит. Я его чуть покачаю, пошлёпаю — он замолчит, потом опять кричать начинает. А потом замолчал совсем и не кричит. Я ещё думал «чего это он замолчал? Без особой на то причины». А он, значит, задохнулся просто.
Но я не задохнулся. Вернее, задохнулся не совсем. Живучим оказался неожиданно с самого начала. При том что родился не бог весть каким здоровяком и гигантом. Сорок семь сантиметров росту во мне было и два шестьсот весу. А выписали меня вообще двухсполовинойкилограммовым. Похудел я у них в роддоме, на казённых харчах и в связи с заболеванием матери, нарушившим мой режим грудного питания.
И с таким, сомнительного здоровья ребёнком, сама после операции, мама из Москвы потащилась туда, откуда уже уезжала навсегда, в глушь и степь, в Донецкий угольный бассейн. Интересно, задумывалась ли она над тем, что насильственно изменяет свою и мою жизни, причём изменяет кардинально, настолько кардинально, что вряд ли когда-нибудь у неё (и у меня, и у отца тоже) получится вернуться в ту колею, в то русло, в котором нам предназначено было жить и прожить стечением обстоятельств, складывавшихся и выстраивавшихся долгие годы в судьбу. И ведь несомненно было предназначено нам что-то другое. Иначе она не поехала бы на неделю в Москву походить по театрам и не встретила бы там отца, и не вышла бы за него скоропалительно замуж. Наверно, ей суждено было остаться и прожить свою жизнь в столице, а не возвращаться на исходные позиции, чёрт знает куда. И если я уехал в конце концов из той степи в город не максимальных, но всё же каких-то возможностей, и маму впоследствии за собой перетащил, то отец на этот раз за нами не поехал, а так и остался работать и жить в степи, и жил, пока не умер — а как жил, точно мне неизвестно. В письмах писал, что хорошо более или менее. Не хуже, хотя и не лучше других стариков. После него осталась там вдова, лет на пять младше меня, и брат мой, совсем ещё пацан, но я их никогда не видел, потому что о смерти отца они сообщили нам, но месяца через три. А раньше почему-то не сообщили. Может, не хотели видеть нас на похоронах, хотя ничего плохого ни я, ни моя мама им не сделали.
Перетерпеть, видно, надо было маме. Не обращать внимания на разговоры и обвинения. Года через два-три всё бы устоялось, образовалось, наладилось. А в шестидесятом умерла бы бабушка, и остались бы мы в хибаре втроём, своей небольшой семьёй, а там уже и Никита Сергеевич начал строительство своих безгабаритных пятиэтажек для народа, вот бы оно всё и пришло в какую-то выносимую норму, к какому-нибудь знаменателю или числителю. Только говорить об этом сейчас бессмысленно. Ничего этого не произошло и не состоялось. И отец тоже уехал из Москвы вслед за нами, удивив лишний раз свою мать и оставив её совсем одну. Уехал, и вся жизнь у всех троих сложилась совсем не так, как должна была сложиться и, конечно, не так, как могла.
А мать отца, мою бабушку, тоже понять можно и не за что её винить и осуждать через столько лет и в её вечном отсутствии. Для неё, когда они, попав в список, бежали, Москва стала спасением от смерти, а муж внушил ей, что это было их единственно возможное спасение.
А потом в Москву, как мухи на майский мёд, полезли другие люди и родственники. Тоже, наверное, с целью спастись. И приехали из разных мест почти все братья мужа. И все действительно спаслись и устроились, и достигли каких-то в своём деле успехов. Семён стал известным в городе хирургом и делал свои операции, стоя на табуреточке, поскольку был маленького роста и не доставал до операционного стола. Его, конечно, попытались взять в начале пятьдесят третьего, но не взяли, поскольку пришли за ним, а он увидел пришедших и, к счастью, получил инсульт. Они огорчились и на него плюнули, а он потом ещё четырнадцать лет прожил. Не говоря как следует и передвигаясь по стеночке, но всё-таки повезло ему спастись и пожить. Сын его, в Днепропетровск по воле случая вернувшийся жить, предлагал потом обменять московскую квартиру и забрать его больного с матерью к себе, чтоб ухаживать за ним и оказывать медицинскую помощь, но Семён так и не согласился на переезд, всё твердил невнятно и неразборчиво: «Не могу без Большого театра».
Зиновий устроился в угольном министерстве и впоследствии занимал высокий ответственный пост в главке. И даже самый из всех братьев старший и много пьющий Мишка нашёл в Москве своё счастье и применение своему таланту: он писал для артистов мосэстрады и москонцерта куплеты, скетчи, и прочие интермедии на злобу дня, пока не умер от обилия хорошей выпивки и еды, а сын его благополучно — несмотря ни на что — закончил в пятидесятом мединститут и получил специальность врача-психиатра. Этот сын, по-моему, и помог родственникам моего деда в больницу определить, когда надобность такая у них возникла и созрела.
И все эти родственные судьбы только укрепляли мою бабку в её представлении о Москве. Так ложно и воспринимала она её всю жизнь — как город, в котором можно спастись. Но ясно же — если все полезут сюда спасаться, не спасётся никто. Вот она по возможности и ограждала свою Москву от посторонних лиц и притязаний, и всех иногородних подозревала в тайном желании стать москвичами с пропиской — любым нечестным путём. И обижала людей подозрениями и словами. А когда подозрения её не оправдывались, она сама обижалась — на тех, кто подозрений не оправдал. То есть она в любом случае обижалась. А с течением времени стала обижаться по самым разным поводам и часто без каких бы то ни было причин. В конце концов оказалось, что моя бабушка обижена на всех. А от тех, на кого ещё не обижена, она ждала чего-нибудь, на что можно было бы немедленно, раз и навсегда, обидеться и вычеркнуть обидчика из своей жизни, чтобы его там больше не было. Она постоянно ждала, что её вот-вот обидят. И её обижали. Её обижал даже я. Мне и трёх лет ещё не исполнилось, когда я умудрился её обидеть и чуть ли не выгнать из дому.
Уже после смерти деда бабушка приехала к нам с визитом примирения и вежливости. В город Антрацит, на шахту «Центрально-Боковская». Где у меня была нянька. Самая настоящая персональная нянька, несмотря на глубоко советское время. Родители работали на две ставки и подрабатывали врачами госстраха. Яслей на шахте не существовало, был детский сад, куда принимали только с трёх лет, и мне наняли бабу Дашу, приехавшую к сестре из деревни в гости и загостившуюся на длительный неопределённый срок. Жила она в одной комнате со мной, поворовывала, продавала на рынке солёные огурцы и помидоры из нашего погреба (которые солила вместе с мамой), жалуясь — мол, украли из бочки ведро огурцов или ведро помидоров. И родители не задумывались, откуда она знает, что украли именно ведро. Украли так украли. Может, мужики не стерпели мучений, в рассоле или закуске нуждаясь. И я бабу Дашу любил детской, бессознательной любовью, любил беспрекословно и безоговорочно. А когда приехала из Москвы бабушка (я звал её баба московская), баба Даша сказала мне — наверное, не без умысла:
— Ну, надо собираться, — сказала. — Не будет же твоя мама держать двух бабушек.
Услышав это, я моментально побежал в другую комнату и стал кричать:
— Баба московская, уезжай скорей, а то уедет баба Даша. Мама же не может двух бабушек держать.
Московская бабушка не только смертельно обиделась на меня, но решила, что я передал ей по детской глупости мамины слова. И обиделась на маму ещё смертельнее. А она-то ни о чём даже не догадывалась — как говорится, ни сном ни духом. И самое нехорошее во всём этом деле то, что бабушка ехала к нам мириться в конце своей жизни, самим фактом приезда предлагая забыть нанесённые обиды и заключить мировую по всем пунктам. Лет пять оставалось тогда бабушке. В шестидесятом году она умерла, я только не помню, в конце года или в начале. А спросить — не у кого. Не помнит этого уже никто из ныне живущих, нет уже тех, кто помнил. И тётки моей нет, и отца, и мама сказала, что хоть убей — не может вспомнить эту дату, так как вылетела она из памяти.
Я же помню только слово «Востряковское», именно это слово связано с московскими моими предками, потому что когда мы приезжали в Москву, отец с сестрой в какой-нибудь день обязательно ездил «на Востряковское». Я, правда, не ездил с ними никогда, ни разу. Сначала считалось, что я маленький, и меня не брали, а потом не изъявлял желания, не понимал, почему нужно ехать в другой конец Москвы, на кладбище, вместо того, чтобы пойти куда-нибудь пошляться, в музей, может даже, сходить или в картинную галерею, да мало ли куда можно было сходить в Москве — центре культуры и искусства — вместо кладбища. А уж если на кладбище идти, то не на Встряковское, а на Новодевичье. Которое опять же не столько кладбище, сколько музей под небом голубым, музей имён и памятников, музей мёртвой истории. Потому что там лежат люди, на которых изучают роль личности в историческом процессе. Изучают, изучают и никак изучить не могут — есть она или её нет. Но всё равно. Главное, что личности эти теперь успокоились. И им теперь хорошо и спокойно. Потому что после смерти всем хорошо и спокойно — даже личностям.
А вот Лёле хорошо и спокойно при жизни. Выше всего на свете она ставит своё спокойствие, свою душевную неподвижность, граничащую с оцепенением. Может быть, это её броня, скорлупа, внутри которой ей более комфортно, так как оттуда, изнутри, окружающая среда кажется ей не такой агрессивной. И если для достижения этого своего внутреннего покоя ей нужно выставить меня — она делает это не задумываясь и не напрягаясь. Потому что думание и напряг тоже могут способствовать нарушению покоя и даже его полному разрушению.
Зачем ей столько преждевременного покоя, при её бурном хаотическом характере — этого я не могу осмыслить. Она уже от обилия покоя стала толстеть, чего с ней не случалось на протяжении всей жизни. Но и с лишними килограммами она борется без лишних движений. Каким-то статическим комплексом упражнений. Помогает он Лёле относительно, потому как толстеть она медленно, но продолжает, зато поочерёдная статическая нагрузка на различные группы мышц ещё больше её успокаивает. Чему Лёля рада и чем счастлива. Она не устаёт повторять «все болезни от нервов, не будет нервов, не будет болезней». И у неё их почти уже нет. Ни болезней нет, ни нервов. Ей всё до лампочки. Всё по фигу. Всё едино. Осталось избавиться от внешних помех. Которые пока есть. И одна из помех — это я. И Лёля её, то есть меня, время от времени устраняет. И я устраняюсь. Потому что не хочу быть помехой.
Если бы при устранении ещё не приходилось менять привычную жизнь. Не приходилось куда-то, хотя и очень недалеко, ехать ни свет ни заря, не приходилось идти с рассветом по городу, как будто идёшь ты потому, что хочешь идти, а не потому, что тебе придали соответствующее ускорение. И вроде так лениво придали, легко. Без применения силы, одним лишь всплеском презрения. То есть попав в самое моё больное и уязвимое место. Другим нужно, чтобы их любили. Мне — лишь бы не презирали. Потому что презирают в отличие от любви не просто так, от чувств, а за что-то. А меня, как мне кажется, презирать всё-таки не за что. Или мне это только кажется? И всегда можно найти, за что презирать человека. Ну тогда будем считать, что у меня мечта такая. Ну, чтоб не презирали. Никто и ни за что. Пока мечта остаётся несбыточной. А может, и пусть остаётся? Сбыточная мечта — это уже не мечта. Это успех. «Успех подкрался незаметно. Мечта сбылась, всему пиздец». Присказка есть такая. Дурацкая и матерная. Как, впрочем, большинство присказок, содержащих в себе народную мудрость.
Меня, кстати, всегда глупо интересовало, как они рождаются, народные присказки? А также и пословицы с поговорками. Кто их произносит впервые? Кто записывает в тетрадочку — чтобы сохранить для потомков? Слабо верится, что это всегда происходит случайно. Иногда — возможно. Как бывает с каламбурами. Лёля однажды, выпив с подругой своей тет-а-тет и размякнув, сказала ей:
— А ведьмы — это ведь мы.
Подруга в каламбур не въехала.
— Я понимаю, что ведьмы — это ведьмы, — говорит. — Ты что хочешь этим сказать?
Лёля посмотрела на подругу свою трезвее всех живых и сказала:
— Ничего не хочу.
И было видно, что сейчас она как раз хотела понимания. Для того и каламбур свой произносила. И они стали пить молча, а когда две немолодые женщины пьют молча, выглядит это жутковато. Тем более в глазах стороннего наблюдателя противоположного пола.
Лёля, она всё так. Говорит то, что хочет сказать, делает то, что хочет делать. И ничего больше. Но если она уже захотела — ничто её не остановит. Захочет любить — будет любить. Захочет выставить — выставит. Захочет изменить — изменит. Пожив с Лёлей, я выяснил для себя эмпирически, что два самых женских качества, а точнее, самых женских свойства — это верность и неверность. И первое, и второе в Лёле имелось с избытком. Так же как третье и четвёртое, и десятое. В ней с избытком всё. В особенности недостатки. Она, правда, их недостатками не считает. Она считает, что даже непорядочность не всегда недостаток. Например, бывает непорядочность не ради подлости, а ради спортивного интереса, что нормально. У неё вообще с этим «порядочно-непорядочно» — свои интимные отношения. И понимание смысла слов — своё. Я когда-то, когда ещё надеялся её в чём-то уличить, кричал Лёле в глаза:
— Ты блядь, тебе свойственны беспорядочные половые связи.
А она спокойно отвечала:
— Мне свойственны порядочные половые связи.
И больше всего меня доставало не то, что она отвечала, а то — как. Абсолютно спокойно. Оскорбительно спокойно. И что при этом творилось у неё внутри, не имело никакого значения и выхода наружу, хотя, возможно, не творилось ничего.
Почему доставало это «как»? А потому что не случайно слова «спокойный» и «покойный» похожи. Совершенно спокойный человек может считаться почти покойным. И когда ты видишь в живой и, несмотря ни на что, близкой женщине покойницу — это не радует. Поэтому я и не люблю чрезмерно спокойных женщин (и мужчин тоже) — они напоминают мне о смерти и о покойниках. Поэтому мне так трудно с Лёлей. Поэтому мне приходится периодически уходить, а если я не ухожу вовремя, она сама меня выставляет. Как сейчас. Когда я пропустил критический момент. Но момент я пропускал всё же редко. И чаще уходил от греха подальше сам.
Иногда даже не уходил, а уезжал, отпускал себя в путешествие. И ехал. Для окружающих в таких случаях приходилось придумывать цель поездки. Чтобы не приставали и не подозревали в ненормальности, романтизме и прочих пороках. Но если ничего не придумывать, ехал я обычно с одной целью: чтобы ехать. Чтобы не сидеть на месте. Которое болит. И надоело. И осточертело три раза подряд. А перед тем как ехать, я шёл. Пешком. Без вещей. На вокзал. Приходил, останавливался у главного табло и задирал голову. Время на вокзале нарезано расписанием. Прибытия и отправления. И есть тут время дальнего следования, а есть пригородное. Время электричек и дизельпоездов. И я, стоя, чувствовал эту разницу. Разницу во времени. И это чувство всегда было приятным. И щекочущим нервы. А в самом поезде меня завораживало то, что в нём все, ну все абсолютно — пассажиры. А не люди, как в других местах. И когда кто-нибудь начинает рассказывать попутчикам, что он не только пассажир, но и человек, и не просто человек, а, допустим, большой или особенный человек, — на него никто серьёзного внимания не обращает и доказательства его пропускает мимо ушей побоку, любуясь пейзажами и ландшафтами, движущимися в окне навстречу или убегающими назад из-за спины, если сидишь ты не по ходу движения, а против.
Нет, конечно, в поезде попадаются не только пассажиры. Там встречаются и проводники. Но они в основном спят мордой в подушку, прямо в чём есть, не снимая кителя и погон, и их можно не учитывать. Если, конечно, они не топят всю ночь углём печку, доводя температуру в вагоне до температуры кипения человеческого тела. И если не пахнут парфюмерными изделиями. Самое сильное впечатление от моей последней поездки — это духи проводницы плацкартного вагона.
И вопросы у меня в поезде возникают необъяснимые и безответные, но интересные, с какой точки зрения их ни рассматривай. Например, насчёт дискриминации городов и других населённых пунктов. Ну чем, думаю я, город Новомосковск лучше города Павлограда? Почему первый относится к так называемой санитарной зоне, где нельзя ходить в туалет даже с целью умыться, по причине его закрытия на ключ, а второй ни к какой зоне не принадлежит, и в нём можно пользоваться не только умывальником, но и унитазом на всю мощь его пропускной способности? Почему это так устроено и заведено? И кем? И чем этот Павлоград провинился перед нами, и почему мы позволяем себе на него, как бы это помягче сформулировать — плевать? В переносном, ясное дело, смысле.
Конечно, слишком далеко я не уезжал. Слишком далеко мне было (к сожалению) и не нужно. Мне хватало минимальных изменений пейзажа за вагонным окном, хватало того, что пейзаж остаётся где-то, того, что я еду и, значит, уезжаю — от одного пейзажа к другому. А далеко или близко, это непринципиально. Хотя иногда хотелось заехать в недосягаемые какие-нибудь края и дали. Чтобы найти тебя можно было только с Интерполом и его собаками, а днём с огнём — нельзя. Но этого хотелось давно. В молодости. Когда уезжать приходилось не только от Лёли, но и по делу. Тогда действительно, по-настоящему далеко приходилось уезжать. И всегда я перед отъездом нервничал, и у меня потели ладони. Волновался я, что не всё запланированное успею сделать, что вернусь ни с чем. Сейчас, если уезжать далеко всё-таки приходится, я тоже волнуюсь — что могу не вернуться. По каким-либо причинам, не исключая причин летального характера. Как будто для невозвращения мало или не может быть других веских причин. Самых элементарных, бытовых, прозаических.
У меня друг, к примеру, уехал в Австралию и там спился. Стоило ради этого ехать. Спиться можно было и дома. Дома для этого и условий больше. Да и приятнее спиваться дома. В кругу друзей и родных отвратительных рож. Но мне это не грозит и, говоря о бытовых причинах, я подразумеваю иное: ну, инфаркт там в тамбуре после рюмки выпитого с попутчиком коньяку. Коньяк расширил сосуды. Потом несколько затяжек, расширенные сосуды суживающих, спазм, боль — и ты лежишь на засыпанном пеплом ребристом полу, покачиваясь, в такт стуку колёс на стыках, и тело твоё изогнуто неестественно, с изломом в районе копчика. И тебя находят не сразу, а только на ближайшей мелкой, промежуточной, станции, находит нетрезвый со сна проводник в форменной рубашке, пыльных штанах и зелёных шлепанцах. Он выходит в тамбур, чтобы открыть дверь для посадки гипотетических пассажиров, которых на этой станции не бывает никогда. Здесь никто никогда не сходит и никто не садится. Здесь живут безвыездно с рождения до смерти. Но проводник всё равно по долгу службы или спьяну выходит — и натыкается на твои холодеющие ноги в тёплых австрийских ботинках.
И в спешке, чтобы не слишком рушить расписание железнодорожного движения, твоё тело снимают с поезда, и помещают в единственный местный морг без холодильника, и забывают о нём. Вернее даже не забывают, поскольку оно, прошу прощения за натурализм, там лежит и на глазах портится. Просто те, кто поместил тело, считают, что их долг перед ним выполнен, они сдали его с рук на руки под расписку. А те, кому сдали, уверены, что доставившие тело должны и дальше принимать какие-то меры и участие в его судьбе — то есть что-то с ним делать. И пока кто-нибудь из родных сообразит, что с тобой случилось нехорошее, пройдёт время. Потому что, несмотря на имеющиеся документы и паспорт с пропиской, станционной милиции нет до твоего иногороднего трупа никакого дела, и звонки по междугородке ей никто не оплачивает, и легче оформить тебя как безродного, похоронив без хлопот и почестей, и опознавательных знаков. Под каким-нибудь инвентарным номером, не говорящим ничего никому.
Да, такое вполне теперь возможно. Это лет пятнадцать назад ничего подобного нельзя было себе даже представить. Во-первых, здоровье тогда было железное, и сердце работало в устойчивом бесперебойном ритме. А во-вторых, если бы я, приехав по назначению, сразу же не позвонил Лёле, она через два часа спокойно подняла бы на ноги и привела в повышенную боевую готовность номер один всю милицию по всему пути моего следования, а возможно, подняла бы и войска стратегического назначения. Зато сейчас она не вспомнит обо мне и через месяц. А если и вспомнит, то вскользь, без намёка на волнение, чтобы лишний раз порадоваться моему длительному отсутствию.
Моё отсутствие (до какого-то предела) просто не может её не радовать. Она и выставляет меня с целью тихо порадоваться. Побыть в абсолютном покое. В кажущемся ей покое. Покое, который со стороны, снаружи, конечно, похож на покой, а на самом деле… Покой ей даже не снится, он ей именно кажется. И она сама себя обманывает, думая, что в нём пребывает. Так как покой и хаос совмещаются плохо. Точнее, покой и хаос две вещи несовместные. Но несомненные. И когда совмещаются покой и хаос, что-то должно взять верх и одержать победу, а что-то исчезнуть. В Лёле давно и окончательно победил хаос, поскольку он прочно укрепился у неё внутри. А то, что снаружи она спокойна, как кремлёвская стена плача, это ничего не меняет по сути или вернее — в её сути. Внешность почти всегда обманчива. Как обманчива практически любая оболочка и упаковка. Более того, хорошая упаковка для того и существует, чтобы скрывать и приукрашивать упакованное в неё содержимое. И все мы — кто чаще, а кто реже — покупаемся на упаковке, то есть обманываемся. А без упаковки и не обманываясь жить нельзя. И если бы только без этого.
Скользя подошвами, я шёл сверху вниз, от музея со скифскими бабами, и глотал ветер, и по щекам у меня текли слёзы. Наверно, из-за того же ветра. А бабы сгрудились во дворе, за железной оградой, и их покрыл снег — белыми шапками и накидками. Баб притащили сюда насильно, из разных веков и концов степи, притащили и поставили на вершине холма. На юру, как говорили раньше, для всеобщего — кому интересно — обозрения. И ветер здесь, на этом возвышении, на этом юру, древней природой созданном — не то что в степи, в низине.
В степи временами тоже дует порядочно. И называются эти времена временами ветра. Ещё бывают в степи времена солнца и времена дождей, а также и времена снега. И конечно, скифские бабы привыкли за столько лет своего каменного существования ко всем этим временам, и они смешались в их каменных глазах в одно общее длинное бесконечное время, но к такому ветру, к ветру, пахнущему выхлопными газами, они всё-таки не привыкли. Этот ветер на вершине холма проникал в их каменные внутренности, сёк их каменную кожу, сбивал их каменное дыхание, срывал их каменные одежды. Он бросал им в лица колкий снег, и бабы прикрывали глаза и пытались отвернуться от ветра, но у них ничего не получалось. Их каменные шеи двигаться не хотели, да и не было у них шей. Ни шей, ни имён не было. Бабы и бабы. Я пробовал как-нибудь звать их, для себя и для отличия, но смотрел в плоские, оплывающие лица, смотрел на руки, мёртво сцепленные на животах, и понимал, что никаких имён быть у них не может. Потому что не может быть имён у разрушающейся временем вечности, у вечности, случайно запечатлённой в камне. Вполне возможно, что именно так выглядел бы сегодня, через столько лет, соляной столп, возникший из Лотовой жены. И, наверно, похожие черты и очертания проступили бы сквозь века и сквозь соль. Но Лотова жена к бабам за оградой отношения не имеет. Не было у Лота такого количества жён. Иначе мы знали бы о гареме Лота. А никаких сведений о нём нет. Да если б и были. Не даёт это ничего, и имён бабьих не определяет. Поскольку неизвестно нам имя и Лотовой жены тоже.
Не зря история эта библейская темна и необъяснима с точки зрения человеческой логики. Ну стоило ли быть праведником в развесёлом Содоме, чтобы потом согрешить с дочерьми собственными и родить от них зачатых в кровосмешении и по пьянке сыновей? И ничего, значит, за эту аморалку ни Лоту, ни дочерям его не было назначено. Никакого справедливого наказания, никакой Божьей кары. А жену Лотову умертвил Бог лишь за то, что обернулась, желая со своим прошлым проститься. Бросить в его сторону один прощальный, самый последний взгляд.
Получается, что ещё тогда, во времена незапамятные и Библейские, одним Бог позволял всё, любой смертный грех, другим не разрешал ничего лишнего — ни шага вправо, ни шага влево, ни поворота головы. А кто преступал запреты Его необъяснимые, тех Он уничтожал безжалостно, целыми городами и народами — как говорится, от мала до велика и до седьмого колена.
Наверно, зря я сегодня ехал полторы лишних минуты и зря заехал на гору. В Нагорный район — самый престижный район города. Он и правда, хороший район и, по нашим понятиям, фешенебельный. Стоит на круче. Рядом парк имени Шевченко, графом Потёмкиным заложенный. Весь научный мир в этом районе сосредоточен. Ещё со времён социализма. Все профессорские дома тут. В какой-то момент (это к слову) заметили, что часто жители их от опухоли мозга умирают. Но внимания особого не обратили на характерную особенность данной местности. Профессора же. От чего им ещё умирать? От сифилиса, что ли, или цирроза печени?
И квартиры в этом районе самые дорогие всегда были и сейчас остаются самыми дорогими. Несмотря на то, что давно нашлись умные люди, тоже, кстати, учёные, и объяснили происхождение болезни у жителей элитарного района. Он, оказывается, мало того, что на разрушенных скалах третичного периода расположен, радиоактивных донельзя, так ещё и вблизи телевышки, и передатчик что-то там такое излучает. Какие-то мощные волны. Накрывая ими именно данную часть города плотнее всего. Вот они, волны, и провоцируют болезнь, которую раньше считали чисто профессиональной для людей науки и техники и думали, что она возникает от излишне напряжённого умственного труда, идущего всем во вред, даже докторам и кандидатам наук.
И я, значит, вышел из маршрутки именно здесь, на горе, и пошёл вниз. Посчитав, что спускаться всегда легче, чем подниматься. Я никогда не выхожу у места — чтобы не перелезать через два чугунных заборчика ограды сквера. Я выхожу или ниже, или выше — чтобы пройтись три минуты пешком и разогнать застоявшуюся в ногах кровь. Так вот, оказывается, что спускаться не всегда легче. Когда ветер дует навстречу, в лицо, и ударяется в склон, по которому ты спускаешься, и путается у тебя в ногах и под полами пальто, идти не то чтобы труднее, но неудобнее, что ли. Удобнее идти в гору, вслед за ветром, вместе с ветром, подгоняемым ветром. Тем более на самом рассвете, в преддверии и в предвкушении дня. Дня неясного и неизвестного, дня, предназначенного лишь для того, чтобы его прожить. Хотя и начинающегося с ветра. Это если для всех. А для меня этот будущий день начался ещё вчера. Поздно вечером. Когда слово за слово мы пришли в разговоре с Лёлей к тому, что:
— Светка нас связывала узлом и превращала в обыкновенную семью, в людей с узами.
Это сказала Лёля.
— А с тех пор, как не стало её, что выяснилось? — сказал я.
А выяснилось, что все наши узы призрачны и не всегда мы сами понимаем, есть они между нами или их нет.
— Все узы призрачны, не только наши, — сказал я. Но Лёля меня не услышала.
Наверно, это так и должно быть. Вначале мужчину и женщину связывает влечение, инстинкт, возможно даже, любовь, потом плоды всего этого, то есть, другими словами, дети. Когда нет ни первого, ни второго, связывать людей нечем. И они развязываются, становятся свободными, может быть, сами того не желая. А когда в семье есть свобода — нет семьи. Зато есть свобода.
Выбирать свободу или не выбирать — это конечно, наше святое право, и оно у нас есть. Как писал тот же (где-то там, выше по тексту) покойный член союза журналистов: «Человек имеет право на свободу, как птица на полёт». Другое дело, не каждый знает, куда эту свободу приткнуть и зачем она. За что и получает сполна. Чтоб знал! И не выбирал лишнего. Свобода, она тётка суровая. Чуть что не по ней, сразу в зубы.
А вообще, всё это пустые разговоры. Потому как если ты даже решил не выбирать ничего, это не говорит об отказе от выбора, это говорит только о том, что ты выбрал «не выбирать», не действие выбрал, а бездействие. И если ошибся в выборе, всё равно получи. От кассы далеко не отходя.
Я получать привык. Потому что я отвыкать от получений не успеваю. Только одно получу, как на очереди уже другое. А за ним третье. Я, таким образом, опытный получатель с непрерывным стажем.
Чего-то меня тянет и влечёт уклониться от дороги. И я смотрю по сторонам в поисках — куда бы свалить. Чтобы не идти так тупо от Лёли (то есть от нас) в своё личное отдельное жилище (то есть — ни к кому). И благо, начинает светать и, значит, я получаю возможность глазеть и пялиться на всё подряд. И конечно, глазею и пялюсь. Что-что, а это занятие меня прекрасно отвлекает от главного и от неприятного. И от трагического — тоже отвлекает. Правда, вижу я обычно всякую чушь и дрянь. Но этим можно пренебречь.
Вот и сейчас, идя вниз, с горы — то дама какая-то в куцей шубейке и длинной юбке с сексуальным разрезом снизу доверху попадается мне на пути (с каждым шагом у дамы из разреза выскакивает нога и отпугивает прохожих мужчин), то пастор американской, видимо, секты, поющий «Yesterday» на пятачке у обмёрзшего фонтанчика. Невзирая на ветер и снег, всё усиливающийся в своём бесконечном падении. Микрофон у пастора в руках дрожит и хрипит, и наверное, примерзает к пальцам. Но он выполняет свою миссию, на погоду плюя и вниманием её не удостаивая. Он ведь представитель публичной профессии. И идёт в публику, в массы, при любой погоде.
«Публичная профессия» — это звучит. Но звучит как-то неинтеллигентно, не гордо. И, видимо, никак по-иному звучать не может. Ну что это за работа — красоваться перед публикой, и говорить, говорить, говорить и говорить? Даже если ты обращаешь её таким образом в свою истинную веру.
И даже если не ублажаешь, а наоборот, ею управляешь. Всё равно, пусть редко, пусть раз в четыре года, от неё всемерно зависишь. И выходишь на неё, на публику, становясь публичным, извините за выражение, политиком, и льстишь этой публике, называя её народом с разными лестными эпитетами, и юлишь перед нею, и врать стараешься красиво до правдоподобия — чтобы её, публику, обаять, одурачить и заставить поверить тому, чему поверить нельзя.
Тут недавно наш город почтил своим присутствием яркий представитель самой публичной профессии — президент. С официальным дружественным визитом вежливости. А на самом деле, встретиться с однокашниками. Ну, и присвоить техникуму, где он учился, звание академии. И конечно, президенту принимающая сторона устроила среди прочего незабываемый сюрприз. Он заглянул в свою комнату, в общежитии, а там евроремонт, и сидят его друзья юных лет за столом, пулю пишут с болванчиком. Потому что их двое всего. Ждут, значит, по замыслу и сценарию третьего своего сожителя, ныне президента.
Ну, президент переступил порог комнаты своей бывшей, посмотрел на это безобразие и говорит:
— Что за мужики в молодёжном общежитии? И почему в азартные игры играют?
Не узнал друзей своих старых. А их со всего мира за счёт городского бюджета везли. Одного из Хабаровска самолётом, а другого и вовсе чартерным рейсом с Мадагаскара. Его туда одна американская компания в командировку послала. Но наши с американцами договорились, неустойку им уплатив, и друга президентского в город доставили к сроку.
Кое-как референты объяснили президенту, что почём, он сразу в роль вошёл, сел перед телекамерами с однокашниками пулю писать по копеечке вист, а они его до трусов раздели, как последнего. Потому что потерял президент форму, не до преферанса ему в последние годы было.
А после встречи друзей и торжеств по переименованию бывшего техникума, ныне колледжа, в академию президент на завод съездил, где работал, производя холодильники, с патриархом местным новый детдом посетил, новый ресторан и синагогу. Это уже без патриарха.
Как раз в это время в городе синагогу отремонтировали, возродив из пепла. Раньше в ней партхозактив находился областного масштаба, потом склад товаров и услуг, а потом здание, значит, верующим торжественно вернули. Ну и президент к ним торжественно зашёл. Заглянул на огонёк по случаю открытия. А чего не зайти, когда обслуга это посещение в протокол и план визита включила.
Ну, президент поздравил евреев, что не громят их благодаря его мудрому правлению, раввина поцеловал в лоб и уехал. С остальным народом диалог вести. Выступил, как вождь, перед горожанами на площади без микрофона и без фанеры, сказал, что пиздец, который наступит нам в этом году, будет юбилейным, сам себе задал вопрос «откуда растут ноги у политики президента?» и сам же на него ответил: «Оттуда, откуда и у всего народа». Затем он подождал аплодисментов, не дождался и пошёл ходить по улицам, общаться из-за спин охранников с городским людом, тянулся к нему, к люду, руками, желая его потрогать, не дотягивался и улыбался ему изо всех сил перекошенным ртом и лицом. Потом охранники в живом телесном кольце сопроводили президента в машину. И машина уехала, рванув с места всеми четырьмя колёсами. А в машине уехал президент — тоже рванув с места в направлении политического Олимпа — чтобы там, на Олимпе, восседать. И больше его никто никогда в нашем городе не видел, хотя это и его бывший родной город, малая, значит, родина. И наверно, она не увидит президента в будущем. Потому что нечего ему у нас делать. Нет у него к нам, бывшим краянам, никаких дел. Он занят. А мы — свободны.
Тот гад, который Дика снёс и Лёлю чуть не убил, он тоже много говорил. Говорил: «Да, я на них наехал. Но вы это докажите законным путём. То, что я в этом виноват — на основании презумпции невиновности. А пока не докажете — я свободен». Он же что себе в заслугу ставил? Возвращение на место происшествия. Ведь мог бы он и не возвращаться. А он какой-то стук услышал, а потом увидел, что у него зеркало отсутствует, заднего вида. И честно вернулся. Чтобы это своё зеркало, которое денег стоит, на дороге найти и подобрать. В общем, он потом доказывал, что не видел никого, стоящего на разделительной полосе. Потому что, во-первых, проезжая часть набережной не освещена в необходимой достаточной степени фонарями, а во-вторых, его ослепила встречная машина. И значит, он вдвойне не виноват и перед совестью своей и законом чист. Мол, если бы он видел их и сбил, тогда да, тогда совсем другое дело, а раз не видел, то и вины никакой на нём нет. Не чувствует он за собой никакой вины и убийцей, даже неумышленным, себя не считает — тем более что он был не пьяный, а трезвый уже два дня подряд.
И в конечном счёте вину его таки не удалось доказать. То ли потому, что и правда, не был он ни в чём виноват, то ли потому, что он сам оказался штатным милиционером. Майором, кажется, по экономическим преступлениям. В смысле — специалистом. «Нам еще повезло, — говорил мне майор в сердцах, — если, конечно, — говорил, — не учитывать пропажу твоей дочери, к чему я прямого отношения не имею, и смерть твоего пса. Но мог же я и жену сбить. Которая всего только перепугалась».
Возможно, мне надо было сражаться с ним до победного или хоть до какого-нибудь конца, чтоб хоть о поисках Светки он под угрозой суда позаботился в среде своих коллег так называемых. Но я сражаться не стал. И не из-за того, что плетью обуха не перешибёшь, а из-за отсутствия в сражении смысла. Ну добился бы я суда какого-нибудь, ну выиграл бы его — что ещё неизвестно, скорее, как своего человека, майора оправдали бы — не могло это ничего изменить. И отменить моё отсутствие дома в тот момент, когда с Диком нужно было идти гулять, не могло. Да и на поиски Светки никак не повлияло бы. Ну не умеют они искать — хоть дави на них, хоть взятки давай. Ну не умеют.
Теперь я думаю, что именно тогда, поняв, что я не буду биться с майором, Лёля стала меня презирать. Не спросив и не разобравшись, почему я повёл себя так, а не иначе. Ей, видимо, скучны были все мои объяснения и доводы. Я вёл себя не так, как должен был по её представлениям себя вести. И этого было вполне с головой достаточно. И для презрения, и для того, чтобы отгородиться от меня, замкнуться в себе самой и начать обрастать скорлупой спокойствия, которая на самом деле была скорлупой безразличия. Безразличия ко всему оставшемуся. Такие потери порождают иногда в людях, и особенно в женщинах, именно это состояние. Устойчивое состояние безразличия. После таких потерь всё другое различается плохо. И нет никакой потребности что-то там такое различать. Всё окружающее понемногу — или в один момент, это у кого как — тускнеет, теряет свои очертания и становится неразличимым, не имеющим различий, то есть безразличным. В полном и буквальном понимании.
А слова и нужно понимать буквально. Буквально и больше никак. И сменим тему. На противоположную и далёкую. От потерь перейдём к приобретениям. Тем более что это несложно.
Достаточно пройтись мысленно назад, обратно, в какое-нибудь прошлое, где приобретения ещё не стали приобретениями, где их ещё не было, потому что не было. Путь туда прямой, поскольку все приобретения, став ими, через какое-то время превращаются в потери. Мы же ничего не приобретаем навечно. Мы иногда думаем, что это так. Но потом понимаем всю ошибочность наших дум и надежд. И теряем то, что когда-то приобрели. И теряемся в конце концов сами. И никакие благие надежды тут помочь не могут. Да, конечно, надежда остаётся всегда. Но мы-то уходим.
Так вот, в своё время я считал Лёлю своим самым удачным, самым дорогим (стоящим)
И вот я по мере сил и наглости отбивался от военкоматских дубов с разным количеством звёзд на погонах и тараканов в голове, пытался лечь в больницу, ходил на работу, так как амбулаторно больничный лист с язвой не давали, и единственным моим утешением было — зайти в комнату напротив, где меня встречали два огромных глаза из-под седой чёлки. Длинный взгляд этих глаз действовал на мою язву, как папаверин — успокаивающе.
Потом я заметил, что иногда меня что-то смутное и неосознанное поднимает вдруг с места и тянет из комнаты. Я выходил в коридор, и тут же выходила она. И я понял, что мы чувствуем друг друга на расстоянии, сквозь две стены.
Лёля появилась у нас совсем недавно. И у меня не было случая и повода с нею познакомиться. Но я и не собирался искать повод. Повод, как это бывает всегда, находится сам собою или не требуется вовсе. В очередной раз, когда мы, как по команде, вышли в коридор и столкнулись, я не сделал шаг назад из пустой вежливости, а спросил:
— Почему у вас седые волосы? Вам же совсем ещё мало лет.
— Лет мне двадцать шесть, — сказала Лёля. — А волосы — я не знаю, почему седые.
— Наверно, у вас все спрашивают, чем вы их красите? — сказал я.
— Да, — сказала Лёля. — Спрашивают.
— И что вы отвечаете?
— Я отвечаю — краской.
Так мы с ней познакомились на почве необъяснимой седины её волос. И всё стало само налаживаться. Сначала от меня отстал военкомат. Как-то в одночасье я перестал быть нужен и в Афганистане, и в Чернобыле. Потом у меня прошло обострение. Без медицинского, можно сказать, вмешательства. И когда освободилось место в больнице, они какое-то время гонялись за мной, чтобы госпитализировать, но я не дался. И что совсем уже невероятно, я выздоровел окончательно и по сей день пью, курю и всё такое. Единственное, что мне осталось от язвы, — я не способен напиться, даже когда мне очень хочется. Желудок отказывается принимать спиртное гораздо раньше, чем отключается голова.
А потом Лёля потащила меня на какую-то акцию каких-то художников. Акция проходила в музее Брежнева. Среди его носильных вещей, бюстов, подарков, удостоверений личности и даже книг. Кроме картин, витражей и скульптур, художники выставили авангардно-шизофренические инсталляции: пружинки и шестерёнки от часов в трёхлитровой банке с надписью «Автопортрет», копчёную скумбрию на газете «Правда», пальто и шапку с ушами, надетые на швабру, расписанную петриковской росписью и прикрученную к руке бронзового, зеленоватого, как сыр, Ильича-два.
После акции пошли к одному из организаторов домой. Внушительной толпой. Впереди толпы медленно ехали красные «Жигули» с красным крестом на заднем стекле и красной сумочкой для документов, оставленной на крыше водителем. Организатор был двухметровым рыжим красавцем в три обхвата. Он писал и читал вслух хорошие стихи (один я помню до сих пор: «Как хлеб к сороковому дню, / Стал воздух сух. Похолодало. / И время отрывать настало / Подковы старому коню»)*.
В квартиру набилось человек сорок. Все пили, ели, курили и читали что-то на память. Не пил только я. Я ещё не знал, что выздоровел, и боялся нового обострения язвы. Я обычно боялся и не пил с месяц после него. Потом забывал и начинал пить, курить и вести спорадический образ жизни. Примерно такой, как вели сейчас эти люди. Они перемещались в дыму, сидели друг у друга на коленях, спорили о чём-то, целовались и ссорились одновременно. На заднем плане всё время возникал пожилой человек с бородкой. Он не делал ничего. Возникал и всё — как вспыхивал. Затем проплывал по заднему плану и угасал. Затем возникал снова. В какой-то момент он отделился от своего заднего плана, вышел на чужой, передний, и сказал:
— Я тоже прочту вам стихи. Я прочту вам все стихи, какие написал в жизни.
В комнате стало тихо и скучно, а пожилой человек поднял лицо к люстре. Его бородка осветилась и нацелилась в дальний угол комнаты, в стык стенок и потолка. Наконец, он сказал:
— А, ладно.
После чего мгновенно оказался на своём вечном втором плане и оставался там до конца вечера. А может, он там и не оставался, а ушёл домой.
Мы с Лёлей тоже ушли. Посидели немного, невольно послушали, как рядом ругается жена с мужем-поэтом:
— Ты про меня эту гадость прочитал.
— Нет.
— Значит, про другую женщину. У тебя есть другая женщина?
— Нет.
— А до свадьбы была?
— До свадьбы была.
— Одна?
— Одна. Или около того.
Долго слушать эту ругань было неловко. А пересесть подальше от ругающихся — некуда. И мы встали не сговариваясь с дивана, вышли в коридор, оделись и вместе ушли. И стали вместе жить. И живём с переменным успехом и с перерывами на что-то другое по сей день. Хотя как раз в сей день мы живём не вместе, а раздельно. Поскольку ничто нас не связывает. Того, кто нас связывал, нет.
Нет, потому что Лёля не уложила Светку в детское время спать и, возможно, выходя с Диком, не заперла дверь, и потому что меня не было, поскольку я был выставлен, а быть выставленным и быть дома одновременно невозможно. Таких «потому что» можно найти бесконечное множество. Буквально — бесконечное. И если бы не они, не эти «потому что», Светка жила бы сегодня с нами, и была бы уже взрослой, и у неё, наверное, был бы, как теперь говорят, бой френд. Возможно, любовник — в пятнадцать лет это сейчас случается часто и густо. И от того, что надо, несмотря на любовника, учиться и закончить школу, и что нет своего жилья, где можно было бы встречаться с ним, когда вздумается, а попросить ключ от моей (хотя и её) пустой квартиры не хватает смелости и духу, у неё бывали бы перепады настроения. И тогда я бы говорил:
— Ты случайно не хочешь солёный огурец?
А она бы мне отвечала:
— Я хочу два огурца.
— Почему два? — спрашивал бы я.
— Потому что у меня будет двойня, — отвечала бы она, и я бы достойно оценивал её юмор.
Я бы смеялся вместе с не по годам взрослой Светкой. И возможно, с нами вместе смеялась бы Лёля. У Лёли неплохое чувство юмора. Даже теперь от него осталось нечто видимое и ощущаемое. Несмотря на то, что Светки нет и не будет. И уже одно это могло лишить юмора кого угодно. И не только юмора могло лишить. И почему могло? Когда не могло, а лишило. Мы с Лёлей не знаем, чего именно лишило нас исчезновение Светки. Нам не положено знать, чего лишают нас исчезновения. И мы не знаем. Мы только чувствуем, что лишены чего-то — возможно, многого, а возможно, не многого, а всего. Во всяком случае, так мне иногда кажется.
Конечно, нет смысла себя обманывать — кажется мне это именно иногда. Вдруг начинают выстраиваться какие-то цепочки, протягиваться какие-то нити. От одного события к другому, от другого к третьему. И приводят эти нити всё туда же — к Светке. К её исчезновению из нашей жизни, к её противоестественному отсутствию среди нас, живых и здоровых её родителей. И убеждать себя в том, что останься Светка с нами, сегодня у нас с Лёлей всё было бы хорошо — можно, конечно. Но если не делать этого, то есть не убеждать, становится понятно, что такие предположения писаны вилами по воде. Когда Лёля выставила меня впервые, Светка была. И если бы Лёля меня не выставила, и если бы с Диком пошёл гулять я, а не она, и если бы майор не сбил Дика, и это не задержало бы Лёлю так долго, и если бы дверь не оказалась открытой…
Нет, эти «если бы» совсем уж никакого смысла в себе не содержат. Смысл можно откопать во всём на свете. Кроме этих самых «если бы». И в том, что мы с Лёлей продолжаем пусть не жить, но сосуществовать, тоже, наверное, есть смысл. И причина этого сосуществования — есть. Я в конце концов понял эту причину, догадался. Мы живём рядом и терпим друг друга из-за Светки. Всё равно из-за Светки. Это не противоречит тому, что Светка, живя с нами, связывала нас естественной, природной связью. Теперь живой связи действительно нет, и сама Светка нас действительно не связывает. Зато нас связывает её потеря. Мы вместе её потеряли, потеряли в полном смысле по ротозейству, и вместе как-то прожили эту потерю. После этого мы, я думаю, понимаем подсознательно, что раз прожили это, сможем прожить и пережить что угодно. Мы живём в ожидании невзгод, несчастий, катаклизмов, живём в ожидании плохого. Живём и ждём, что это плохое (может, даже война с китайцами или коллективизация) наступит, и его надо будет переживать всеми силами и средствами, и вот тогда мы друг другу окажемся незаменимыми. А когда хорошо или не хорошо, а более или менее нормально и терпимо — мы друг без друга вполне можем обойтись и жить врозь лучше и спокойнее, и приятнее, чем вместе, одной семьёй и под одной общей крышей. И мы регулярно друг без друга обходимся. Инициатива регулярности обычно не моя. Инициатива обычно Лёлина. Так было всегда и во всём без исключения. Инициатива всегда принадлежала Лёле, ей она и принадлежит. Так она привыкла и так устроена. Инициатива исходит от неё сама собой, выделяясь независимо, как функция организма. Моя последняя успешная инициатива, какую я помню в нашей совместной, общей жизни — это была инициатива родить Светку. Вернее, дать ей родиться не препятствуя.
Лёля-то отнеслась к этой перспективе без особого энтузиазма. А я чуть не единственный раз в жизни настоял на своём, то есть не на своём, конечно, а на нашем общем. Чтоб рожать — и никаких гвоздей и путей назад. И рожала Светку Лёля как-то между делом и между прочим. Нехотя. Как будто предвидела что-то нехорошее в будущем. Как будто знала — лучше её не рожать и не давать ей жизнь, а уничтожить в зародыше, когда жизнь по-настоящему ещё не началась, а только зарождается и, значит, жизнью во всей её полноте считаться не может.
До самых родов Лёля старалась не обращать внимания на свою беременность, жить, как жила, не бабиться. Когда я говорил, что надо бы сходить в женскую консультацию и стать на учёт, она отмахивалась, говоря, что успеет стать и что не знает адреса этого медучреждения, а узнавать ей неохота и незачем. Так ни разу за девять месяцев и не была там. Вдруг среди ночи сказала: «Ну, я пошла», — и стала собираться.
— Куда пошла? — спросил я.
— Рожать, — сказала Лёля. — По твоей милости.
Я вышел на угол, к остановке такси, и мне сразу повезло. Я разбудил спящего в лимонной «Волге» таксиста. Он посмотрел на меня дурным глазом, крутанул глазным яблоком и дохнул дурным воздухом из прокуренных лёгких.
— Куда ехать?
— Куда скажу.
Таксист встряхнулся, решил, что дядя я серьёзный, и возражать мне ночью небезопасно:
— Понял.
«Волга» завелась, взвыла, задымила. Я сел рядом в просиженное низкое кресло. Заехали во двор. Остановились. Я поднялся в квартиру, взял приготовленные Лёлей вещи. Хотел помочь ей. Нести их и вообще — идти.
— Я сама, — сказала она и пошла по лестнице вниз. Шла Лёля тяжело, ступая на пятки, и всё-таки с лёгкостью. Слоновьей, но лёгкостью. «Неужели ей не больно? — думал я. — Должны же у неё быть частые схватки. Или у неё всё по-своему»?
В роддоме недовольно удивились, что у Лёли нет никаких справок, анализов, истории болезни и тому подобных, обязательных для медицины документов. Лёля сказала:
— Вот мои документы, — и качнула животом.
Этот вызывающий жест возбудил новый прилив недовольства у роддомовского персонала. Недовольства ею. И мною. И всем человеческим племенем, неразумным и непросвещённым относительно собственного здоровья и системы здравоохранения в стране. Они мне сказали:
— Ну, а вы, товарищ супруг, куда смотрели и как такой беспорядок допустили?
Я не ответил. Я задумался над вопросом «какое надо иметь особое устройство мозгов, чтобы обратиться к человеку „товарищ супруг“?»
И медперсонал стал уводить Лёлю, сказав, что сейчас у неё будут брать все анализы и производить прочие необходимые обследования, без которых рожать детей никак и ни в коем случае нельзя. А Лёля сказала:
— Не будут брать и производить.
— Почему? — спросили роддомовские.
Но Лёля им ничего определённого не ответила. Она просто присела и душераздирающе заорала. По ногам у неё что-то потекло. Я отвернулся, опасаясь, что всего этого натурализма с достоинством не вынесу, и Лёля мне после просмотра таких откровенных биологических картин жизни как женщина опротивеет.
Лёлю утащили, и я спросил у дежурной тётки:
— Что мне делать?
— А я знаю? — ответила тётка.
Я вышел из помещения. Посмотрел сквозь свет уличных фонарей на здание роддома снаружи. Поднял голову. Высокое здание. Опустил голову. Весь асфальт исписан дебильными и одновременно счастливыми сентенциями: «Спасибо за Васю. Петя». «Любимая, нас теперь трое. Соображаешь?». «Мы здесь рожали. Вова, Надя, бабушка Нина и дедушка Лёня из Казани». Читать эту восторженную галиматью дальше не хотелось. И я пошёл по надписям ногами.
Дома лёг. Уснул. Разбудил меня телефон. Долго не мог нащупать трубку. Всё время мазал и натыкался то на пепельницу, то на книгу пушкинских сказок, то на огрызок яблока, оставленный Лёлей.
— У нас дочь, — сказала в трубку Лёля. — Придумай ей приличное человеческое имя.
Я сказал:
— Пусть будет Светка.
И Лёля сказала:
— Пусть.
Когда Светки не стало, и прошло какое-то время — года два, наверное, — я заикнулся, что не подумать ли нам о новом, другом, ребёнке. Светку уже не вернуть — это ясно, — а без ребёнка жить семейной жизнью неполноценно и неестественно, и если сейчас не решимся, через несколько лет будет поздно, так как молодыми родителями нас и особенно меня назвать трудно. Лёля посмотрела из своего угла, сказала «бе-е-е-е», и я понял — никакого ребёнка не будет. И таки не было и нет. Ни у нас не было и нет, ни у неё, ни у меня. А ведь во время наших многочисленных разводов, пошедших после этого разговора косяком, дети могли бы появиться. Не общие, так у каждого свои. Не появились. Это факт. Он коль уж состоялся, то всё. Деваться некуда. И все мы под фактом, можно сказать, ходим. Как под мечом дамокловым подвешенным. Поскольку всё можно по совету Маркса с Сократом подвергнуть сомнению, а факты нельзя. О фактах можно размышлять и городить вокруг них домыслы и гипотезы, но предварительно с ними смирившись, признав их, фактов, непоколебимое наличие и величие.
Я вот часто стал думать — живём мы тут и сегодня, и это непреложный факт нашего, громко говоря, бытия. И, казалось бы, нечего над этим фактом думать и раздумывать. А я думаю. Что было бы, если бы (опять это дурацкое до бесконечности «если бы») мы жили в другом, скажем, времени? Как бы ко мне относилась Лёля эпохи Возрождения? Или Реставрации? Или эпохи второго Храма? А если бы и в другом времени, и в другом месте мы жили? Ну, допустим, в Древнем Риме? Или в Помпеях. Или в великой Германии 1939-го года? И что была бы у нас за жизнь, родись мы англичанами или арабами, или теми же немцами в том же 1939-м году. Странные размышления.
Я подозреваю — ни время, ни место, ни иное до полной неузнаваемости происхождение не остановили бы Лёлю и не изменили б её. И выставила бы она меня всё так же. Вот разве что Дик не попал бы в Древнем Риме под машину, и не исчезла бы из квартиры Светка. Но, может быть, там Дик попал бы под колесницу, управляемую каким-нибудь пьяным после симпозиума древним итальянцем. О том, что могло случиться со Светкой в Помпеях или в Германии — и думать не хочется. Там с ней могло произойти что-нибудь ещё более страшное, чем-то, что произошло здесь, у нас, в наше время. То есть как более страшное? И что это может быть? Смерть? Да, смерть, она и есть смерть, и ничего страшнее быть вроде не может. Страшнее может быть разве только приближение к смерти. Тот последний кусок жизни — длинный или совсем короткий, — что к смерти приводит и ей предшествует. Это для самого человека. А для близких его — исчезновение, наверно, страшнее. Потому что смерть как потеря хотя бы ставит точку. И от этой точки надо начинать как-то жить и можно, удаляясь во времени, свыкнуться и стерпеться. Исчезновение — это отсутствие точки, и невозможность от неё и от потери отдалиться.
Наверное, поэтому — хотя и не задумываясь почему — я в ограде Лёлиных родителей сделал ещё один холмик. Заказал небольшую плиту с датами рождения и мнимой смерти, и у нас появилась могила. На которую стало можно прийти. Лёля тогда сказала на это:
— Идиот. А если она жива?
Несколько лет после пропажи Светки и гибели Дика, Лёля панически боялась переходить дорогу. Даже на зелёный свет. И если переходила — только по подземным переходам. Когда такого перехода не обнаруживалось, она отказывалась идти, останавливалась и стояла, а постояв, возвращалась ни с чем. Когда не идти было совсем уж нельзя, она шла или ехала в какой-нибудь немыслимый обход, объезд, в троллейбусе по кольцу, как угодно. Лишь бы не поперёк дороги, лишь бы не приближаться к машинам.
Потом она стала вдруг относиться к движущемуся металлу, как ко мне — с презрением. Перебредала самые напряжённые городские магистрали где вздумается. Не глядя ни вправо, ни влево. Приходила домой, сто раз обматерённая, обруганная самыми последними водительскими словами. Но живая и невредимая. Наконец, она сказала: «Значит, не судьба». И стала относиться к автомобилям спокойно. Как к средству передвижения и только. И перестала ходить к родителям, а значит, и к Светке, на могилу. Вообще перестала. Сказав один раз и навсегда: «Могилы у меня внутри, а не на местности». И я ходил туда один. Тоже редко. Но два раза в год — в день рождения и в день «смерти» Светки — ходил. Ничего не говоря о своих походах Лёле. А она всё равно что-то такое чувствовала. И бывала в эти дни против обыкновения нервной и взвинченной. В эти дни её оставляло обычное внешнее спокойствие. Она не могла сохранить его даже для виду и для других. А может, она не пыталась его сохранять. Да, скорее всего, не пыталась. Она мало заботилась о внешних проявлениях. Внешние проявления Лёли проявлялись сами собой. Или не проявлялись. Но тоже сами.
Я вот до сих пор не знаю и не могу оценить одного её, так сказать, проявления. Были годы, когда в Светкины дни мы с Лёлей жили врозь. И таких лет набралось в общей сложности немало. И всегда в эти дни Лёля мне звонила. Ничего не говоря о Светке. Она звонила как ни в чём не бывало, как будто мы не были в глухом разводе. Спрашивала, почему мой телефон не отвечает с самого утра, и где я таскаюсь, и как без неё обхожусь, и что у меня нового — как жизнь, другими словами, спрашивала. Я что-нибудь ей отвечал. И на протяжении всего разговора думал только об одном: «Помнит она о Светке или не помнит?»
Потому что вполне могла не помнить, а звонила, почувствовав желание позвонить. Ну могли же редкие приступы её желания совпадать всего с двумя определёнными днями. Может быть, это что-нибудь, связанное с биотоками и биоритмами или с иной какой-либо чертовнёй. А, возможно, всё здесь проще. Возможно, Лёля просто как нормальная мать всё помнит и всё снова и снова переживает по сию пору, и не может забыть и себе простить. Но и говорить об этом не может. Даже со мной. И она имеет это право — не говорить, тем более что не говорить, молчать, ещё труднее. Молчание скапливается в организме. Как вредные шлаки. То, что произнёс, высказал — наоборот, уходит и забывается, то, что промолчал — остаётся. Это как с любовью и нелюбовью. Нелюбовь имеет свойство накапливаться, а любовь проходит — и всё. Именно так считает Лёля. И говорит, что со злобой та же картина. Поэтому в старых многоэтажных домах за годы жизни разных людей накапливается её очень много. Этого проектировщики, когда додумались до домов в несколько этажей, видимо, не учли. Да и не пытались учесть. Они дорогостоящие земельные участки использовали рационально. Думали, что так будет лучше и всем со всех сторон выгоднее. Оно бы так и было, если б не эта накопленная злоба. Которая разлита и взвешена во внутреннем пространстве старых домов и которая мешает в них жить новым, въехавшим снаружи и ничего не подозревающим людям. И они, находясь в этой старой злобе и днём и ночью, начинают злиться друг на друга и впитывать чужую злобу из воздуха, и копить её в себе. От этого разрушаются молодые, недавно созданные, семьи и потом, разрушившись, они не могут вспомнить и понять, что произошло, в чём причина разрушения, ведь так вроде всё хорошо начиналось и продолжалось, и казалось, что так хорошо будет если не вечно, то всегда.
Лёля считает, что жить надо в новой квартире. А идеально — в собственном доме. Чтоб вокруг участок земельный с забором и ни над головой, ни под ногами, ни через стенку — ни одной человеческой души. Живёт, правда, Лёля большую часть жизни в обычной — далеко не новой — квартире. Живёт и считает, что жить в ней нельзя. И сожалеет, что нет у неё возможностей дом собственный приобрести в своё личное безраздельное пользование.
Когда она ходила замуж за организованного преступника, у него, само собой разумеется, был свой дом. И не один. Но это были всё-таки его дома, а не Лёлины, и его так быстро отправили к праотцам и прадедам, что получить удовольствие от обособленной, закрытой от других, жизни Лёля не успела. Получение удовольствия, оно тоже времени требует. А получение удовольствия от определённого образа жизни требует длительного времени, протяжённости. Жизни, можно сказать, оно требует. Иногда всей, иногда части.
И я склонен верить Лёле и её теории о любви, нелюбви и злобе. А может, мне просто хочется надеяться, что ни она, ни я не виноваты в нашей жизни, и что если бы мы жили не тут, мы жили бы и не так. Обычное распространенное заблуждение. Присущее, к слову, всем без исключения эмигрантам. Особенно будущим эмигрантам. За чем люди едут в другую страну? За другой жизнью. А жизнь другой может, конечно, быть, но редко. А часто — жизнь везде одна и та же. Потому что она, как и наши могилы, не снаружи нас, а внутри. Известно это давно, но всё ещё не всем. Потому что не все прочли в юношеском любознательном возрасте умные книги умного дяди по фамилии Шопенгауэр. Да если бы и прочли. Умные книги не до всех доходят. А уж их глубокий смысл — и подавно. Он доходит до тех, кому нужен, а кому не нужен, до тех он и не доходит понапрасну. Значит, правильно всё устроено. В этой части нашего человеческого сознания. К сожалению, и тут не без хаоса. Хотя — почему к сожалению? К счастью.
Я знаю или, конечно, знал одного человека, заявлявшего, что он понял глубокий смысл. Не чего-то смысл, а в целом. Глубокий смысл как таковой. Вскоре после этого своего заявления человек выпил и, веселя компанию, выпрыгнул в одежде и обуви с прогулочного катера. Забыл, что плавать он совсем не умеет. Был у него такой существенный пробел в физическом воспитании. И, я так думаю, хорошо, что он не поделился со мною или с кем-то другим своим знанием и пониманием глубокого смысла. Так неосторожно и опрометчиво им понятого. Ему бы от делёжки легче не стало, а мы, те, с кем он вздумал бы делиться — могли совершить что-нибудь непредвиденное и себе во вред. Вдруг и мы спрыгнули бы в воду с катера? Или откуда-нибудь ещё спрыгнули бы. С катушек, допустим. Правда, с катушек я и без смысла, похоже, скоро спрыгну. Или тихо сойду. Для этого мне достаточно Лёли. И никакого смысла в добавление к ней не нужно. Я и так, похоже, зациклился на том, что она меня выставила. И всё время возвращаюсь к тому же самому. И это, видимо, сдвиг по фазе на одном слове и одном событии.
Я ловлю себя на том, что постоянно вспоминаю о «выставлениях». О недавних и о тех, что случались Бог знает когда и по самым разным причинам. Например, зимой, в разгар эпидемии гриппа и иных простудных заболеваний. Лёля всегда заболевала первой, и болезнь протекала у неё тяжело и остро. С температурой под сорок и с кашлем изматывающим, и с упадком сил практически до полного их отсутствия. И, естественно, она в такие нездоровые периоды начинала всецело от меня зависеть, а я начинал за ней ухаживать, как за маленькой, получая, врать не буду, от её беспомощности удовольствие. И это моё удовольствие, и свою зависимость от меня, и собственную беспомощность в моих глазах — всего этого Лёля перенести не могла. И заболев гриппом, тоже меня выставляла. Максимум, на третий день. А то и на второй. И сама, в одиночестве, перемогалась, своей силой воли обходясь и ни у кого в долгу не оставаясь. Это было самое обидное. Когда тебя выставляли за то, что помогал и ухаживал. Это тоже подталкивало к нехитрой мысли, что от Лёли придётся таки уходить. Всё равно придётся. Рано или поздно. Но — придётся.
Как только я пришёл к выводу, что с Лёлей надо завязывать и что это не жизнь, мне совсем перестало везти с женщинами. Я, значит, пытаюсь найти Лёле замену хоть какую-нибудь, а мне навязчиво попадаются жёны, не изменяющие своим мужьям. Много таких жён. Я никогда не думал, что их так много. И все они не изменяют мужьям со мной. Как будто никого другого для этого подобрать не могут. Самое же неприятное в этом деле то, что выяснялась их похвальная верность и преданность только в постели непосредственно. Что становилось для меня совсем уж неожиданностью и сюрпризом. И зачем они шли со мной — для меня загадка. Для них, думаю, тоже. И вообще — зачем это всё было нужно? Зачем-то или просто так? И в устройстве всей моей отдельно взятой жизни «всё» — зачем-нибудь или от фонаря? Для создания ещё более густого хаоса, хаоса, из которого выбраться совсем невозможно? И, к слову, зачем я задаю себе все эти вопросы? И мне, и Лёле нормально и в хаосе. Нам в нём, по крайней мере, привычно. Точнее, мне — привычно. А Лёля в нём органично существует и вписывается в него без зазора. И сама хаос генерирует. Ну, в общем, сколько можно об этом говорить? О Лёле всё сказано. А что не сказано, она говорит о себе сама. Всем, кто попадётся под это дело. Под её желание говорить, в смысле. Потому что когда Лёля начинает говорить, она просто удовлетворяет свою потребность в произнесении слов. Слов, которые совершенно необязательно соответствуют действительности и правде жизни, и вообще необязательно хоть чему-нибудь соответствуют.
Сначала я думал, что Лёля любит приврать, совершенно бесцельно и беззаветно, из любви, так сказать, к искусству, как любят приврать от избытка и буйства фантазии многие дети. Потом мне казалось, что она клевещет на себя, а заодно, случалось, и на меня, и на всех, кто на язык попадётся. Но со временем я всё понял — Лёля освобождалась от лишних, накопившихся, невысказанных слов, слов, которые тяготили её, подкатывали и, в конце концов, вылетали из неё на свободу длинными и короткими очередями. И она не слишком соображала и задумывалась, в каком порядке эти слова ставить, потому что это словоизвержение не от неё зависело. И я перестал слушать Лёлю во время таких её припадков и приступов говорения, принимаемых многими за приступы откровенности. Когда на неё накатывало это желание, а под боком никого не оказывалось, Лёля вполне могла пойти и слушателя себе разыскать. Ей было всё равно, кто это будет. Лишь бы он имел уши и сидел спокойно. Конечно, найти такого слушателя было не всегда легко. Сидеть спокойно, слушая то, что спокойно говорила в такие минуты Лёля, не всем удавалось. А уж когда она доходила до своих бабьих, придушенных модуляций, которые резали не только ухо, но и все внутренности — тут нужны были особые нервы, нервы повышенной крепости и эластичности. Или любовь к Лёле нужна была. Любовь, которая слепа, глуха или, как минимум, невнимательна к очевидному.
Я долго не обращал внимания на Лёлины эти модуляции. Я их не слышал, а когда слышал, они казались мне проявлением скрытой экспрессии, эмоций, присущих только Лёле и никому больше не присущих. А когда отношения наши поустоялись, и мы пообтёрлись друг о друга, мне пришло в голову, что такими противными нотами в голосе у Лёли обозначается истерика. И словесный её понос, возникающий нечасто, но неожиданно и ничем не оправданно, тоже оттуда, от истерики. Истерики внутренней и не видной несведущему человеку. Только от невидимости истерика не перестаёт быть истерикой. Пусть выглядит она как угодно — разговором, злословием, монологом, откровением. У женской истерики много красок и видов. И я сейчас уже иногда думаю, что Лёля, спокойная, как скифская баба, Лёля — обыкновенная истеричка. И возможно, что меня выставляет она тоже в истерике. Сама находясь под её воздействием и не имея возможности от этого воздействия увернуться — так, чтоб хотя бы самой от себя не пострадать. Я думаю, для неё тоже все эти дела бесследно не проходят. И, может быть, она, выйдя из своей истерики, как из запоя, жалеет, мол, зря я всё это наговорила и наделала, но жалеет она задним числом и, значит, задним умом. Которым все крепки. И в тот момент, когда она так начинает думать, сделать уже ничего нельзя. Так как всё уже сделано. Я думаю, потом, после и в результате истерики, она и о том, что меня выгоняет — тоже жалеет. А не выгонять не может. Привычка.
Как-то я сказал ей: «Иногда мне кажется, что ты меня ненавидишь. И не просто, а как-нибудь люто». На что она ответила: «И мне иногда кажется, что ты меня ненавидишь. И тоже люто». А когда двум людям кажется одно и то же, возможно, им это не совсем кажется. Или совсем не кажется. Эту догадку лучше не додумывать. Лучше оставить её в подвешенном незавершённом виде и к ней не возвращаться. И не только к ней лучше не возвращаться.
Но у меня не возвращаться не получается. Я всегда куда-нибудь возвращаюсь. Сейчас я тоже возвращаюсь. В свою старую квартиру, в квартиру на одного, туда, где я уже жил когда-то и жил, кстати, вполне неплохо. Может быть, потому что жил один, а может быть, потому, что был гораздо моложе, чем теперь. С другой стороны, когда я жил тут уже в зрелых летах, временно и вынужденно, мне тоже было неплохо — в моей микроскопической квартире и в этом старом, тридцатилетней давности, дворе. Видно, я успел со всем этим сродниться. И длительные мои периоды отсутствия никак на эту сроднённость не действовали. Наверно, моё место было здесь, а не в другой квартире, в другом районе, городе и так далее. Наверно, не всегда человек выбирает место, иногда место выбирает человека. А человек этого не понимает, бегает и метит, и осваивает другие места, а они его отторгают и отшвыривают.
Несмотря на раннее утро, в котельной у Ахмата горел свет. Не везде, а только наверху, на последнем этаже его четырёхугольной кирпичной башни. В окне под вывеской «Прирезка стекла населению». Эта «Прирезка» находилась в нашем дворе именно в здании котельной. Здание построили, но в результате реформ превратить его в котельную не успели. Так оно и стояло без дела и пользы, это здание, пока его не прибрал к своим умелым рукам Ахмат. Он его то ли арендовал, то ли купил, то ли просто дал кому-то денег, и открыл мастерскую по прирезке стекла, зеркал
И всё у Ахмата было дешевле, чем у других продавцов и торговцев. И знали об этом все жители округи, все, кроме милиции и прочих силовых органов правопорядка. И не только знали, но и покупали, экономя на каждой покупке определённые суммы денег. Потому что, во-первых, у Ахмата поставки были налажены беспошлинные и выгодные, а во-вторых, он налогов практически не платил стране пребывания с торговой деятельности. С прирезки стекла только платил что-то. Но это такие мелочи, что их можно не считать. Страна пребывания, конечно, была этим недовольна и недоверие Ахмату высказывала открытое. И проверяла его с пристрастием. Пришли к нему как-то внезапно из налоговой то ли инспекции, то ли полиции уполномоченные люди, сели и весь день сидели внутри, записывали, сколько к нему народу ходит, чтоб прибыль его прикинуть и в уме подсчитать приблизительно.
Ну, Ахмат мальчишку взглядом послал — есть у него пацан бездомный на побегушках в услужении, — чтоб тот на дальних подступах всех, кто не за стеклом идёт, вспять поворачивал, и всё. Тот ещё двух своих дружков прихватил — они тоже в котельной вечно толклись и всех постоянных клиентов в лицо знали. И они, значит, на всех трёх подходах день отстояли в качестве боевого охранения, никого лишнего и нежелательного мимо себя не пропустив. А Ахмат потом им по пятёрке дал. Каждому в руки, по-честному. На этом проверка с пристрастием и кончилась. Видно, поняли в налоговых органах и убедились, что нет у Ахмата никакой прибыли, до такой степени нет, что как он вообще существует, неясно.
Что он, интересно, в такую рань делает на верхотуре? Или это у него со вчера жизнь ещё не затихла? Жизнь у Ахмата — понятие круглосуточное и непрерывное. Он без отдыха живёт, будучи взрослым мужчиной, полным сил. Плюс темперамент южный неукротимый, плюс дела. А кроме того, я думаю, Ахмат всё-таки какой-нибудь бандит и гангстер, и он просто обязан вести ночной, а не иной образ жизни и пользоваться покровом ночи в своих преступных корыстных целях.
Я прошёл мимо псевдокотельной. Прошёл и углубился во двор. В пространство, ограниченное как попало домами. Наша вечная уборщица Нинка уже вышла на работу. Но пока стояла на крыльце с метлой в руке, как с веслом, и потягивалась, зевая во весь свой немалый рот. Судя по всему и исходя из профессии, Нинка людей не любит. Или, по крайней мере, не должна любить искренне и от всей души. Потому что она видит их с самой худшей, грязной и гадкой стороны. В смысле, они — люди — везде гадят, а Нинка за ними изо дня в день бесконечно убирает, убирает и убирает.
По большому счёту Нинка не против того, что гадят — иначе ей и убирать было бы на работе нечего, — но если бы гадили немного меньше — в количественном смысле и отношении! Раз уж всё устроено в мире так, а не как-нибудь иначе, и по-другому нельзя. Ну чтоб хоть в лифтах в процессе движения не гадили. Нинке же не трудно убрать. Потому что уборка, можно сказать, есть функция её организма. Самая её суть. Наверно, Нинка родилась уборщицей. Многие думают, что уборщицами не рождаются, а становятся. Некоторые становятся, а некоторые — рождаются.
Нинка длинно и сладострастно потягивается. Выходит из ночного состояния в утреннее. В рабочее. А увидев меня и поближе ко мне присмотревшись, она произносит:
— Здрасьте, — и делает неловкое движение метлой. Метла трётся о цемент крыльца, издаёт шаркающий шипящий звук и поднимает первое аккуратное облачко пыли.
Я вхожу в подъезд, поднимаюсь пешком по лестнице, поскольку к лифтам этого дома у меня устойчивое недоверие и такое же отвращение. А подниматься мне нелегко. В последний год моё собственное тело начало заметно тяжелеть, и таскать его за собой становится всё труднее. Вообще, совладать с собственным телом человек не может всю жизнь. В детстве он год или больше тратит на то, чтобы хоть как-нибудь, шатко и валко, научиться ходить. В юности собственное тело мучит его половыми притязаниями. В зрелости тело постоянно нужно кормить и лечить, и поддерживать в рабочей форме. И в старости оно снова становится неуправляемым, как в раннем детстве, а для некоторых превращается в такую обузу, что смерть им кажется освобождением, избавлением и наградой за жизнь. Хотя на самом деле всё наоборот: не смерть — награда за жизнь, а жизнь — награда за смерть. Единственная награда, дающаяся незаслуженно, вперёд, авансом.
Наконец, я добираюсь до своей лестничной площадки и своей двери. Останавливаюсь, успокаиваю дыхание. Сую ключ в замочную скважину.
Ключ с трудом, спотыкаясь, входит в неё и заклинивает. И ни взад ни вперёд, ни вправо ни влево.
«Наверно, хотели ограбить пустую квартиру, — предполагаю я. — Да видно, не открыли. Только замок сломали». Я начинаю дёргать ключ, дверь и вообще, всё, что можно дёргать. И слышу:
— Кто там?
— Я, — говорю я, не понимая, кто это залез в мою квартиру и задаёт оттуда вопросы.
Дверь отворяется. На пороге стоит мужчина с крепким взглядом, в очках и в чём-то явно домашнем. Во всяком случае — в носках и без обуви.
— Вы ко мне? — спрашивает он.
— Я к себе, — отвечаю я и вхожу.
Он следует за мной, протискивается вперёд, в комнату, и там садится.
Рабочее вертящееся кресло заскрипело под ним, как старый диван, и в дальнейшем поскрипывало при каждом, самом неуловимом, движении мужчины.
Я постоял, не узнавая своей квартиры. В комнате было чисто, как в аптекоуправлении. На моль — никакого намёка. Это я сразу понял — что можно и не искать, что моль здесь выведена если не навсегда, то до лета точно.
На письменном столе мягко шумел компьютер. Пахло парфюмерией, лаком, кофе и многим другим. Скрип и шум смешивались с запахами. Всходило солнце. Бледное и убитое.
— Вы кто и что здесь делаете? — сказал я.
— Я здесь живу, — сказал мужчина. — Вернее, я здесь работаю. А живу я тоже здесь. Но не всегда. Всегда я на проспекте Героев живу, с одной женщиной.
— Но это моя квартира.
— Почему ваша? Это моя квартира. Я её купил. Для продуктивной работы и тишины. Могу все документы предъявить. У меня документы в порядке, все и всегда. И ремонт я тут произвёл, практически капитальный. Моль вывел, пауков, тараканов.
— Пауки — хранители жилища, — сказал я и всё понял.
Тем более понимать было особенно нечего. Кто-то, пока я здесь отсутствовал, живя с Лёлей, продал мою квартиру. Заметил, что я не появляюсь по полгода — и продал. И мне почему-то пришло в голову, что провернул это милое дело Ахмат. Конечно, нельзя подозревать человека, не имея веских оснований и доказательств. Но я и не подозреваю. Просто пришло это в голову.
Мне ничего не оставалось. Кроме как уйти. Эта возможность, возможность уйти, остаётся всегда. Я ушёл и понял, что к таким изменениям в жизни я всё-таки не готов, несмотря на то, что хотел изменений — хотел, понимая, что они назрели.
И тем не менее, из своей квартиры я ушёл, сказав новому её хозяину «извините». Не отнимать же было у него купленное жильё. Наверное, у него больше прав на него, он заплатил живые деньги, а мне квартира досталась бесплатно тогда, когда квартиры ещё «давали». А если и отнимать? То как? Квартира — это же не игрушка детская, которую можно отнять, будучи сильнее или взрослее.
Теперь из доступных мне помещений и жизненных пространств, я располагал только рабочим помещением, местом службы, значит. Так называемым офисом. Наша газетка арендует его тут недалеко, у Шуберта. В смысле, у музучилища имени Шуберта, рядом с офисом горсадовского духового оркестра. Правда, сегодня мне туда по техническим причинам идти не надо и противопоказано для здоровья. Сегодня на нашем этаже санстанция комплексно травит всяких гадов. Всех гадов одним махом. Тараканов, мышей, муравьёв, моль. Интересно, прибегал хозяин моей квартиры к услугам санстанции? Или не прибегал? Да, всех, кто шевелится, размножается и не приносит человеку пользы, травят сегодня у Шуберта. Человеков, к слову, тоже заодно травят. Походя относя их к гадам. И, наверно, заслуженно. Но я в этой трудной ситуации всё равно туда пошёл. Так, — чтобы отвлечься и собраться с мыслями. Решил, что зайду к Гене Пыпычу, пребывающему на своём месте с раннего утра до пока не надоест. Его фотолаборатория находится двумя этажами выше. И там сегодня никого травить и умерщвлять не обещали. Хотя Гена ждёт момента травли на своём этаже с ужасом и смятением. Он уверен, что никого травить и убивать нельзя. Раз уж ты не Господь Бог. Я как-то увидел моль, сидящую на Гениных штанах и сказал тихо, чтоб её не спугнуть:
— Гена, — сказал, — убей моль.
— За что? — спросил Гена и не шевельнулся.
Вот какой это человек. Гуманный и порядочный одновременно. К тому же отец троих дочерей и муж их матери, а со дня на день станет ещё и дедушкой, так как средняя дочь вышла на прошлой неделе замуж.
Гена мне не сказать, что обрадовался. Он мне не огорчился. И попросил:
— Давай пройдём отсюда вглубь. А то меня директриса три дня уже ищет и домогается. Хочет, чтобы я её фотографировал. За бесплатно. Мне, сам знаешь, не жалко, но я её не люблю. Всех, в общем, люблю, а её — как-то не получается.
Директрису действительно любить было трудно. Даже Гене. Она ходила в красном платье, с красными губами и говорила студентам командирским голосом: «Хамство надо воспитывать!» И через преподавателей требовала у них денег. То себе ко дню рождения, то на ремонт кабинета, то в фонд училища, то в директорский личный фонд. А арендную плату нам, Гене и вообще всем, она постоянно повышала.
— У тебя что, настроение испорченное? — спросил Гена.
— Вот именно, — сказал я. — Когда в сорок восемь лет понимаешь, что ты один, как дурак — настроение почему-то портится. А тут ещё кто-то мою квартиру толкнул.
— Ну, это ж всё временно? — сказал Гена.
— Конечно, временно, — сказал я.
Гена запер дверь лаборатории и отпер другую дверь, дверь ведущую внутрь чего-то. Я этой двери никогда не видел. Не замечал, что в углу она есть. И вела эта дверь, как оказалось, в большую комнату без окон. Здесь были свалены в кучу народные музыкальные инструменты. Домры, мандолины, балалайки. Они лежали горой. Пыльные и растрескавшиеся. У некоторых не было грифов. У некоторых — только колков. Струн не было у всех. Зато пахло в комнате плесенью и, конечно, моли кружилось над этой грудой искалеченного дерева — несметно. Наверно, она и дерево ест, гадость.
— Кладбище балалаек, — сказал Гена Пыпыч. — Я его время от времени фотографирую.
— Зачем? — спросил я.
— А хорошие снимки получаются, — сказал Гена. — Сюрреалистические и свежие.
— И что, моль кружащаяся тоже на них видна? Сука.
— Моль? — сказал Гена и подумал. — Моль я как-то никогда не учитывал. Надо будет попробовать и её сфотографировать.
— Попробуй, — сказал я.
Гена стал ходить вокруг балалаечной кучи, видимо, выбирать точку и ракурс, и что там ещё выбирают фотографы. Он увлёкся своим выбором и не заметил, что я вышел. Вышел и пошёл. Я тоже этого не заметил. Я только поймал себя на том, что иду и, судя по направлению, не просто иду, а иду обратно, то есть возвращаюсь. На автопилоте.
На автопилоте я свернул к котельной. На автопилоте вошёл.
Ахмата нет. Зато в мастерской сидит Лёля. Прямо за столом, одеялом накрытым. На этом одеяле стекло обычно режут. А она сидит, курит, всхлипывая, и о чём-то своём думает. Я увидел её, говорю:
— Что ты тут делаешь?
А она говорит:
— Реву.
________________
* Стихотворение Дмитрия Тарнопольского.
